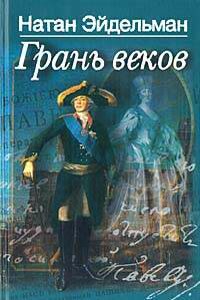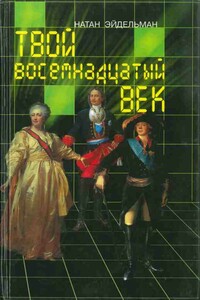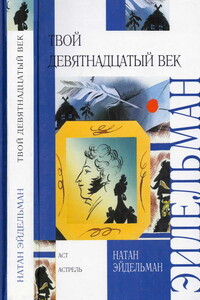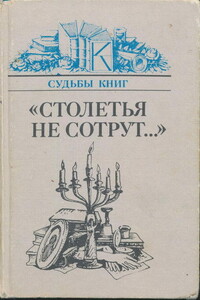Подобные ответы слушать тем более стыдно, что дореволюционные историки выдвинули ряд, разумеется, не абсолютных, но достаточно важных статистических соображений; в последнее время, наконец, начала высказываться и советская наука.
В начале XX столетия были опубликованы исследования П. Н. Милюкова о населении и государственном хозяйстве при Петре Великом. По данным петровских переписей и ревизий, автор пришел к довольно страшным выводам: податное население к 1710 году уменьшилось на 20 %, то есть на одну пятую; если учесть, что часть этих людей переходила в другие категории населения, тогда получалась убыль 14,6 %, то есть одна седьмая. По некоторым же губерниям убыль дворов представлялась катастрофической (Архангелогородская и Санкт-петербургская — 40 %, Смоленская — 46 %, Московская — 24 %).
Позже, однако, М. В. Клочков, Я. Е. Водарский, Е. В. Анисимов и другие исследователи пришли к выводу, что выкладки эти не совсем надежны; огромное количество людей пряталось от переписчиков (Петр в конце царствования пытками и казнями добывал с мест «правильные цифры»!); через несколько лет после смерти первого императора очередная сводка определила, что 74,2 % убывающих приходится на долю умерших, 20,1 % — на беглых, 5,5 % — на рекрутов.
В недавно вышедшем интересном исследовании Е. В. Анисимова «Податная реформа Петра I» критикуются завышенные данные Милюкова, но приводятся другие весьма впечатляющие сведения об экономике тогдашней России: прямые и косвенные налоги с 1680 по 1724 год возросли в 5,5 раза, если разделить их на «податную душу» и учесть падение курса рубля, то получится, что в конце царствования Петра мужик и посадский платили в казну в среднем втрое больше, чем в начале. По словам одного из тайных доносителей, «крестьянам не доведется быть более отягченными» и «при дальнейшем увеличении податных тягостей может остаться земля без людей». Анисимов показывает, как огромная петровская армия располагалась «по губерниям» для обеспечения самодержавной диктатуры, пресечения побегов, вышибания необходимых миллионов на армию, флот, Петербург, двор.
Если вслед за дореволюционной наукой счесть убыль населения, равную одной седьмой, то, переведя все это на язык «современных цифр», получим, что для времени Петра это было то же самое, как если бы ныне вдруг (не дай-то бог!) в нашей стране исчезло 40 миллионов человек! Приняв меньшие «проценты смертности», все равно придем к «эквиваленту современному» — 30, 20, 10 миллионам…
Но и это еще не все. Огромные жертвы и подати — лишь неполный список народных страданий. Сильнейшим потрясениям подвергались также народные понятия, идеология. Во-первых, царь ослабил авторитет и без того поколебленной в прежние века церкви: вместо патриарха — синод. Тайна исповеди сочтена второстепенной по сравнению с тайной государственной; именно с XVIII века в попы стараются ставить людей, приходу не близких, не односельчан (как часто бывало прежде), а присланных со стороны, чужаков, ставленников империи; тогда падение церковного авторитета приводит к знаменитой ситуации, позже описанной Белинским в «Письме к Гоголю»:
«В русском народе… много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность часто уживается с ними, живой пример Франция, где и теперь много искренних католиков между людьми просвещенными и образованными… Русский народ не таков. Религиозность не прививалась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных исключительных личностей… ничего не доказывают».
На глазах у миллионов мужиков неблагоприятно, враждебно (в их смысле) меняется «верхний мир» — дворянство, чиновники, церковь.
Ни в одной стране не бывало подобного раскола между «господами и слугами», как в петровской и послепетровской Руси. Прежде, в XVII и более ранних веках, барин, царь своим обликом был понятен населению: несравненно более богатые одеяния, но по типу привычные, длинные, национальные; таковы же бороды, прически. Теперь же у «благородного» — короткая одежда, бритое лицо, парик, вызывающие ужас и отвращение мужиков. Если в других странах аристократы говорили по крайней мере на национальном языке, то русские «верхи» все больше изъясняются на немецком, а позже на французском.