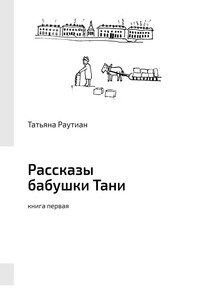— Париж взят! — горестно воскликнул он и слезы показались у него на глазах. Затем он побежал домой, вероятно, рассказать, печальную новость родителям.
Так по–разному реагировали тогда москвичи.
26 июня 1940 года на первой странице «Правды» появился призыв Центрального совета профсоюзов с предложением об увеличении рабочего дня на предприятиях с семи до восьми часов, а в учреждениях с шести до восьми. Рабочий день для подростков от 16 до 18 лет, у которых был до сих пор шестичасовой рабочий день, тоже должен был быть увеличен до восьми часов.
Вместо «шестидневки» профсоюзы предлагали ввести опять семидневную неделю[2].
Профсоюзное руководство не ограничилось, однако, предложением oб удлинении рабочего дня и рабочей недели, оно предложило еще и отмену свободы выбора места работы, В обращении стояло:
«Центральный совет советских профсоюзов считает необходимым запретить самовольный уход с места работы рабочим и служащим государственных, кооперативных и коммунальных предприятий, а также самовольный переход из одного предприятия в другое или из одного учреждения в другое».
Было ясно, что за профсоюзными «предложениями» последует правительственное постановление.
Соответствующее постановление было опубликовано уже на следующий же день. А потом, задним числом, была, организована кампания «единогласного» одобрения этих мер.
Все «предложения» профсоюзов — увеличение продолжительности рабочего дня до восьми часов, переход на семидневную неделю и запрещение самовольного ухода с работы — были отражены в постановлении Президиума Верховного совета.
Параграф пятый точно определял положения о запрете перемены места работы:
«Рабочие и служащие за самовольный уход из государственных, кооперативных и коммунальных предприятий и учреждений будут предаваться суду и караться, по приговору народного суда, тюремным заключением сроком от двух до четырех месяцев».
Не только рабочим грозило тюремное наказание, но и директорам предприятий, недостаточно строго следящим за выполнением постановления.
Хотя новый закон нас непосредственно не затрагивал, на подготовительном курсе было созвано общее собрание. Нам было сказано, что закон от 26 июня должен служить нам стимулом для усиленной учебы. Мы тоже «приветствовали» и, конечно, единогласно.
Вскоре закон был дополнен приказом наркомата юстиции от 22 июля 1940 года, согласно которому опоздание на 20 минут квалифицировалось как прогул и каралось «принудительно–воспитательным трудом» по месту работы сроком до шести месяцев, с удержанием до 25 процентов заработка.
«Двадцатиминутный закон» имел невероятные последствия. От воспитанников нашего бывшего детдома, работавших на предприятиях, я узнавал, что там происходило. Это было ужасно. Транспортное сообщение было настолько плохим, что опоздания свыше 20 минут происходили и без всякой вины со стороны рабочих. Но никакие доказательства не помогали. Директора предприятий сами дрожали от страха. Число предававшихся суду и приговаривавшихся к «принудительно–воспитательным работам» непрерывно росло.
Несмотря на трагичность положения, в Москве появился новый анекдот об этом законе:
— Ты слышал уже, что Большой театр сгорел дотла?
— Как же это возможно? А что же делала пожарная команда?
— Пожарная команда сидит в тюрьме.
— В тюрьме?
— Да, она прибыла на место пожара через 20 минут и не была допущена к горящему зданию. Теперь пожарники приговорены к принудительно–воспитательным работам и сидят в тюрьме.
Волна арестов на основании нового закона приняла вскоре такие размеры, что суды не успевали справляться с делами. Поэтому указом президиума Верховного совета от 10 августа 1940 года было постановлено, что судопроизводство по вопросам нарушения трудовой дисциплины должно впредь вестись народными судами без участия присяжных заседателей.
Эти события находились в центре внимания жителей Советского Союза, переставших на время интересоваться другими вопросами. Разгром Франции, воздушная война над Англией, захват советскими войсками прибалтийских стран и их превращение в «союзные республики», занятие Бессарабии и Северной Буковины, все это поблекло перед «борьбой против прогульщиков, лентяев и дезорганизаторов».