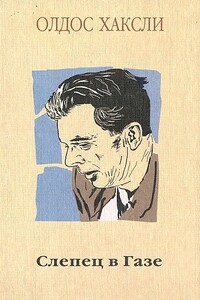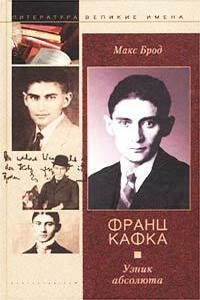Не дело не двигалось. По обоим вопросам решение все откладывалось. Посланник дон Мигуэль по-прежнему вел бесконечную переписку с португальским двором, в то же время Реубени не удавалось получить определенного разрешения на вербовку армии из годных к военной службе евреев в Риме. Правда, он приказал завести списки, подвергал осмотру юношей, которые заявляли о своем желании вступить в армию, начал даже обучать их военным приемам. Но на этом дело и остановилось. В то же время эти приготовления послужили его противникам материалом для агитации против него. Они заявляли, что будет безумием разрешать вооружаться евреям, этим опаснейшим врагам Церкви Христовой. Не в качестве союзников христиан, как обещает Реубени, а в качестве врагов используют они свое оружие.
Кардинал Эджидио, правда, держался твердо. Точно также покровительствовал Реубени престарелый Лоренцо Пуччи, главный начальник тюрем и решительный враг инквизиции и доминиканцев, который в свои молодые годы поддерживал борьбу благородного Рейхлина с теми, кто требовал сожжения Талмуда в Кельне. Этот Лоренцо Пуччи был строгим католиком, но он любил пробуждавшийся молодой мир, который так серьезно стремился к красоте и действительному братству всех сильных людей, без различия сословий и происхождения. И он смертельно ненавидел Испанию и исходившие из этой страны мракобесия посягательства на все свободные порывы. У папы Реубени еще раз добился аудиенции. Прием был оказан отеческий, благосклонный, но решения не последовало никакого. Продолжительная беседа с папой и на сей раз постоянно сбивалась от стоявших на очереди политических вопросов на общие жалобы по поводу надоевшей всем военной смуты. Разговор закончился любимым словечком: videbimus — посмотрим.
Правда, у него было больше, чем когда-либо, оснований к нерешительности. Военное счастье беспрерывно колебалось и, по-видимому, никак не могло прочно обосноваться в лагере какой-нибудь из сторон.
Была зима. Прошел почти год с тех пор, как Реубени прибыл в Италию. И ничего не было достигнуто.
Реубени держали про запас в качестве орудия курии против инквизиции и против усиления императорского влияния в Португалии. Но этого средства не пускали в ход, пока оставалось неизвестным, кого следует бояться больше — императора или французов. Посланник знал, что в этой обстановке интригами нельзя было помочь делу.
Из Венеции прибыл Мантино. Не собирался ли он мстить за свое падение? В Венеции, где он утратил всякий авторитет, он не мог больше оставаться. Но в Риме Мантино имел великого покровителя в лице епископа Джиберти, который был теперь управляющим канцелярии в Ватикане. Неудивительно, что Реубени почувствовал, как с прибытием Мантино все скрытые препятствия при курии заметно усилились. Можно ли было назвать случайностью, что этот же самый епископ Джиберти теперь более резко выступал также и против Аретино, которого он всегда преследовал? Аретино ответил на это злым стишком, который он вывесил на «пасквино» — сломанной статуе, на которой римляне привыкли читать насмешки на злобу дня.
Вскоре после этого последовал удар кинжалом. Аретино свалился раненый с лошади. Все знали, кто нанял бандита. Но Климент, подпавший теперь всецело под влияние Джиберти, не принял своего прежнего любимца, и Аретино не имел даже возможности изложить ему свои жалобы и подозрения.
— Я всегда не любил этого желчного епископа, — сказал он Реубени, который посетил его во время болезни. — Это тоже один из тех, которые слишком мало спят.
И как только он выздоровел, он отправился в лагерь к капитану Джованни Медичи, в лагерь «черных банд». Это — «дьявол, который, по крайней мере, не притворяется ничем иным».
А «притворщикам в Риме» он посвятил в своем «Радджонаменти» ядовитую главу: «Эти умники не открывают рта, чтобы не сдвинулись складки, в которые они сложили свои губы перед зеркалом; а если они иногда и открывают свой рот, то делают это с величайшей осторожностью, чтобы снова сложить губы в надлежащие складки. И к распутным женщинам они ходят тихо-тихо, кошачьей походкой. А когда они оказывают свое внимание какой-нибудь из них, они при этом добавляют: „Мы такие же грешные, как и все“. Застегнув потом штаны, они приводят свои губы в движение и не перестают бормотать: „Господи помилуй“, „Domine ne in furore“ и „Exaudi orationem“. И затем немедленно отправляются в больницу, чтобы растирать ноги неизлечимо больным. Пускай их щиплют в аду раскаленными щипцами».