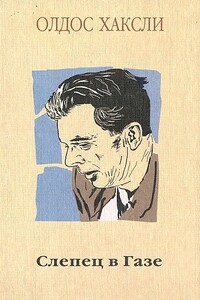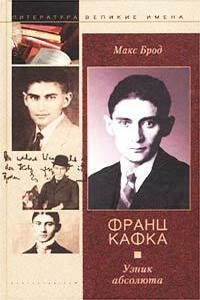— Аретино! Какой же новой шуткой ты привел в такое состояние одного из самых невозмутимо-торжественных капитанов моей гвардии?
— Ваше святейшество, это было сказано всерьез, а не в шутку. Этот несчастный мраморный старик, — он указал на Лаокоона, лицо которого выражает бессилие и боль, — живо напоминает мне старого толстого прелата, которого я вчера наблюдал в скважину стены в комнате, когда он был у моей Нанны. Эта добрая девушка, несомненно, мастерица своего дела. Но с этим старым козлом…
— Пьетро! Вы снова хотите из-за своей болтовни лишиться только что дарованного вам помилования?
— Я как раз пришел поблагодарить за него. Я спешил приветствовать первые утренние лучи солнца, которое снова взошло для меня.
— Вы не заслужили помилования, сонеты ваших «позиций» не только грязны, но и скучны, и язык у них скверный.
Хотя слова и лицо папы выражали отвращение, он тем не менее оставил своих спутников и, словно убегая, пошел рядом с быстро шагавшим Аретино.
— Ваше святейшество знает, что я не грамматик. Я люблю тот язык, на котором говорят на улице, и презираю ученый хлам, собранный из старых полуразбитых надписей. Правда, в наше время без знания этого хлама уже не решаются пожелать друг другу доброго утра и спросить, сколько стоит фунт артишоков.
— Ты щеголяешь своим невежеством, я никогда не одобрял этого. Вот такой образ мыслей и порождает твои непристойные и пошлые стихи, которые возбуждают к тебе ненависть всех благородных душ.
— Но эти стихи, — бесцеремонно прервал его Аретино, — оказались весьма полезными, когда я их вывесил на «пасквино» для осмеяния всех остальных кандидатов на папский престол и для избрания вашего святейшества.
Папа рассмеялся.
— Это верно, ты был и останешься «Aretino il veritiero», хотя Божественным я тебя не желаю назвать.
— Если ваше святейшество называет меня правдивым, то не могу ли я из этого сделать вывод, что и это платье на мне не является ложью, хотя до сих пор я носил его, не имея на то права, а сегодня одел только от радости по поводу моего помилования.
— Пожаловать тебя званием рыцаря? — Папу, по-видимому, не рассердило это бесстыдное попрошайничество, он только задумался. — У моего брата Льва в рыцарях были шуты и юродивые! Рыцари Рима, которые будут защищать его от врагов и пожара! Но, пожалуй, те две канцоны, которые ты прислал мне вчера, заслуживают большего, нежели простое прощение. Огромное у тебя дарование, Аретино. Только объясни мне, как могут из одной и той же головы выходить такие возвышенные и святые строфы и в то же время такие отвратительные и глупые сонеты?
— Сонеты я писал к глупым картинам Джулио Романо, такого же бабника, как я сам, а канцоны вдохновлены самым значительным и величественным образом, который я когда-либо видел, — вами самими, святейший отец, которому я почтительно предлагаю, как наместнику Христа на земле, примирить враждующих королей и воюющие государства и, ставши во главе их, пойти походом на турок.
— Да, верно, в этих канцонах говорилось о походе на турок!
Это напомнило Клименту о Реубени и кардинале, которые остались у группы Лаокоона. Ему не хотелось продолжать с ними беседу. Он отпустил их жестом. Но зато речи Аретино, смесь дерзости и неумеренной лести развлекали его. Их можно было слушать одним ухом, и всегда среди них попадались меткие, веселые замечания. К тому же развлекало не столько содержание болтовни, сколько ее свежесть и неисчерпаемость, что свидетельствовало об удивительной жизненной силе, таившейся в этом человеке. Эта переливающаяся через край сила и уверенность сообщалась другим, и она была почти что необходима такому сдержанному и трезвому человеку, как Климент. Это было хорошим противоядием против печального настроения, в которое обычно повергали его беседы на политические темы. Удивительно, насколько можно было по-разному изобразить одно и то же дело. Этот поход на турок, объединение монархов, все это казалось серьезным, жестоким, почти безнадежным делом, когда об этом говорил еврейский посол, а в обработке Аретино получалась изящная, легкая и приятная канцона.