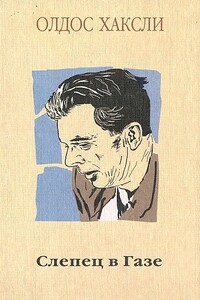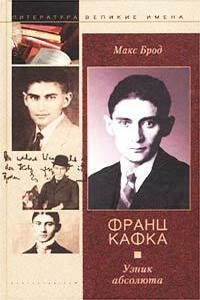Давиду хочется вмешаться и сказать: «Нет, я не так думаю. Отделять свою судьбу от судьбы общины было бы позорным бегством. Вы останетесь моими братьями. То, что я крикнул с моста, обращаясь к вашим домам, не было отречением. Если я от вас уйду, то только для того, чтобы искать ваш прообраз, неиспорченный благородный облик, на котором легла пыль столетий. Моя ли вина в том, что для того, чтобы найти это благородство и свободу, я должен уйти от вас, из ваших стен, в христианский город, где светит более счастливое солнце, где трава и деревья растут не только на кладбище, где природа свободно дарит плоды жизни. Где бы я ни искал, я всегда искал только красоту Израиля, низвергнутую с неба девятого ава, не навсегда низвергнутую, не для всех поколений». И вдруг Давид замечает, что он раскрыл рот, что он действительно говорит.
Заседание ведется еще беспорядочнее, нежели два дня тому назад. Тогда указ об изгнании еще не был оглашен. Теперь уже прошли целые сутки предоставленного восьмидневного срока, а положение нисколько не изменилось к лучшему. Боязливое ожидание, возбуждение достигли невыносимых пределов. Почти все постились, все не спали. У Давида в висках стучит также бессонная ночь и лишает его ясности мысли. Потому он говорит путанно, перескакивая от одного к другому.
— Я шел путем греха! — вскрикивает он, как это делают при молитве.
«Отец наш, царь наш, мы согрешили перед тобой», — отвечают ему некоторые из собрания и бьют себя кулаками в грудь. Вокруг Давида образуется небольшая группа. Он предсказывает спасение. Спасение — благодаря его греху. Никто его не понимает. Старшина настораживается. С своего высокого сиденья он обращается к Давиду и предлагает ему объяснить всем, на чем основывается его предсказание. Положение теперь такое, что нельзя пренебрегать ничем, даже самой невероятной возможностью спасения. Мясник Бунцель, не состоящий членом совета, но присутствующий сегодня на заседании вместе с некоторыми другими членами общины, — он просто насильно ворвался, так как основы порядка поколебались, — Бунцель, этот грубый человек, только что предложил вооружить молодых людей и в день изгнания защищать ворота. Лучше все зажечь, чем добровольно сдаться! «Хорошая надежда!» — восклицает кто-то из собрания.
«Надежда!» — при этом слове Давид вздрагивает. И он говорит, что у него тоже нет надежды. Наоборот, он все еще надеется, что план Моники не удастся. «Кто такая Моника?» — кричат ему. И он рассказывает о христианке, рассказывает, как посещал ее каждую ночь. Отец все равно это знает, так пускай знают и другие. В голове у него становится все туманней. Он говорит и о Герзоне, о том, как путем хитрости добыл у него ключ от ворот. «Это было началом зла. Нет, не началом. Начало так далеко, что я не могу даже найти его. Но все же это было особенно дурным поступком — обманывать ничего не подозревающего старика. Судите сами!» «Из такого зла произрастет добро? избави нас Бог. Лучше погибнуть честно и добродетельно, нежели быть обязанными своим избавлением Сатане». От него начинают отворачиваться. Он едва это замечает, продолжает говорить. Покаяние в грехе перед всей общиной, перед рабби, перед старшиной, перед отцом, перед другом детства… «Здесь все вы, кто меня знает. Так судите меня! Так все было»… И он рассказывает о том, что было в ночь пожара, о разговоре с Герзоном, который рассказал о ложных видениях, о беседе с отцом, отказавшим сыну в сердечной его просьбе, только сказал, что «дальний родственник» и больше ничего… «Все это привело меня к Монике, единственной, которая была добра ко мне, так что мне легко было потребовать от нее самое ужасное. „Я все равно пойду к бургграфу“, — были ее слова, и я сам проводил ее, отвел и уложил в его постель, взял его старческие пальцы в свои и приложил их, как холодную жабу, к ее пылающей груди».
Все снова насторожились, спрашивают его, когда должно случиться то, о чем он говорит в лихорадочном бреду. Но у него уже ничего нельзя больше выпытать. Он еще бормочет некоторое время и потом падает в обморочном состоянии.