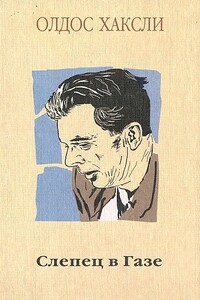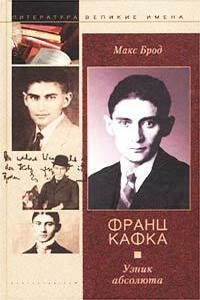Было ясно, что добиться единения теперь невозможно, и старшина уже вел переговоры с рабби и некоторыми поддерживающими его старостами о созыве нового собрания.
Пользуясь тем, что порядок в зале нарушен, противники резко нападали друг на друга.
Вдруг из утла комнаты раздалось гнусавое пение, которое, хотя и не было громким, моментально заглушило шум и заставило всех умолкнуть. Это один из членов совета повернулся к восточной стене и начал послеобеденную молитву, «минха». К нему примкнули все остальные, тоже повернулись лицом к востоку, и голоса их слились, иногда объединяясь в невыносимый гул, иногда снова дробясь на тихие полутоны. И вдруг снова вскрик и снова приглушенные рыдания. Все молящиеся стали медленно раскачиваться туловищами вперед и назад или резко поворачивались в обе стороны. Не потребовалось никакой церемонии, чтобы в одно мгновение превратить совет в молельню. И народ, среди которого никто не считался с мнением другого, вдруг оказался подлинным народом. Молитва объединила их.
И Давид вдруг почувствовал, что весь этот день он пристрастно и неправильно, может быть под влиянием событий ночи, смотрел на вещи и был несправедлив к своим единоверцам. Когда он смотрел на них теперь, он находил у них у всех, а не только у отца, возвышенные и, во всяком случае, не пошлые черты. Разве не все они по-своему радели об общем благе? В других условиях, без этого гнета, под которым они жили как евреи, среди другого, более могущественного народа некоторые из них стали бы выдающимися государственными деятелями. Старшина Мунка был бы правителем-тираном, Липман Спира его верным визирем, Просниц — великолепным архивариусом, рабби — мирным священником, благоразумно держащимся на заднем плане, Мейер Дуб — хорошим юристом и систематиком, а Кралик — тем оратором оппозиции, без которого невозможны правильные прения и благоразумные мероприятия.
Молитва закончилась. Люди расходились усталые, с воспаленными глазами. Последние взоры, которыми они обменивались друг с другом, снова несколько отрезвили Давида. В этих враждебных взорах не было никакой мысли. И он не мог скрыть от себя, что в конце концов правильной оказалась только старая поговорка: «Что решили на собрании?» — «Собраться еще раз».
На следующее утро, в сопровождении огромной толпы, в еврейский город въехал трубач и протрубил три раза: у городских ворот, у старой синагоги, у скотобойни около кладбища, после чего герольд, тоже сидевший на лошади, прочел королевский приказ, в силу которого все евреи с женщинами и детьми должны были в течение восьми дней покинуть Прагу и пригороды и взять с собою только платье, которое они носят на себе, и съестные припасы на неделю. Евреи, которые по истечении этого срока окажутся в Праге и пригородах или в соседних деревнях, подлежат смертной казни.
Народ ликовал, пел издевательские песенки — старые и сочиненные специально на этот случай. Радость была так велика, что никто не думал о грабеже. Городской страже, мобилизованной большими отрядами, нечего было делать.
Евреи безмолвно убегали с улиц, закрывали двери и ставни окон.
Трижды наслаждался народ оглашением королевского приказа, угрозою смерти евреям. Затем он в веселом настроении очистил еврейский город, где не было больше ничего интересного.
Улицы в течение всего дня пустовали. Только когда вечером в обычный час закрылись ворота гетто, евреи осмелились показаться из своих домов.
В эту ночь никто не спал.
В отчаянии и смятении евреи толпились на улицах. Останавливаясь перед домом рабби, перед домом старшины, взывали о помощи. Учебные и молельные дома были переполнены. Люди читали псалмы, рвали на себе волосы, посыпали голову пеплом, разрывали платье. Вдруг распространилась весть, что Липман Спира заколол кинжалом свою единственную дочь — молоденькую девушку. Слух на этот раз оказался не выдумкой. Все видели, как судебные заседатели вошли в дом рабби Марголиота и как туда привели Спиру. За ним следовала его жена, совершенно убитая горем, неспособная произнести ни слова. Суд оправдал его, памятуя, что в святых общинах в Шпейере и Вормсе многие отцы убивали своих детей, чтобы спасти их от самого страшного несчастья — от принудительного крещения. А положение евреев в Праге, по всеобщему убеждению, было такое же бедственное, как положение этих общин, уничтоженных крестоносцами.