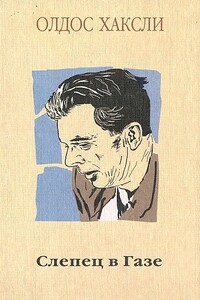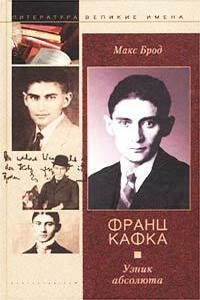— Если найдут труп, мне несдобровать.
Давид посмотрел на нее, ничего не понимая.
— Ведь все-таки его убили из-за меня. Что не ты это сделал, это ничего не меняет.
Ему показалось, что она презрительно скривила губы. У него мелькнуло в голове: «Она — Венера, но как далек я от Марса»…
— Разве его не будут хоронить? — спросил он взволнованно.
— Я ведь сказала тебе: надо, чтобы не нашли его трупа.
— Ну, а как же с христианским погребением, — так ведь вы это называете?
— Поторопись, — у нас мало времени.
Она наклонилась к покойнику, схватила его подмышки. Давид все еще был неподвижен.
— Мне кажется, что ты, в сущности, язычница, а я, хотя еврей, но… больше христианин, чем ты.
Но он устыдился ее взгляда, который явственно говорил, что здесь не место для религиозных диспутов. Он не хотел заставлять ее одну тащить это тело.
«Значит, и тут есть палата мумий, как у Ферранте, и я каждую ночь буду проходить мимо мертвеца, когда буду прокрадываться к своему греху. О, я теперь только и узнаю, что такое грех».
Его так взволновали эти мысли, что он сначала не заметил, как тащил мертвеца. Но вдруг ему показалось, что холод трупа пронизывает плащ, к которому он прикасался.
И, вскрикнув, он бросил ношу и отпрыгнул в сторону. Прислонившись к стене и дрожа, он смотрел, как Моника одна скрылась с трупом в двери, ведущей в темную каморку. Не прощаясь с ней, он спустился к городскому валу и побежал к лодке.
«Какой я трус, — злобно говорил он себе. Зубы у него стучали, ноги скользили. — На этом самом валу я однажды вообразил себе, что беру приступом вражеский город. Да, если он не будет защищаться, если не будет течь кровь! О, как низко! Действительно ли низко? Нет, нет, пусть будет так, как оно есть, это все же лучше, чем убивать! Все на свете лучше, чем убийство. Следует быть добрым, хотя бы пришлось казаться жалким! Только не убивать! Только не грех, только не оружие и злоба!»
Все, что он передумал и пережил за последние годы, казалось словно опрокинутым при виде трупа. Смятение, груды развалин в сердце его.
Когда он входил в лодку, что-то зазвенело. Оружие в мешке. «А я, я хотел убить Гиршля — ранним утром и весело. Какие жалкие глупости я говорил!» И его охватил ужас перед собственной незрелостью, перед стремительной сменой мнений, перед неуверенностью, с которой он шел. Он не знал, куда ему идти. Вернуться к учению, жить как все евреи? Ему вдруг захотелось видеть отца. Снова найти путь к благочестивому отцу. Отбросить от себя, как что-то нечистое, все эти приключения, которые он переживал, жить мирно среди огромных книг, как ребенок.
Когда он выехал на середину реки, он бросил мешок в воду. Кинжал зазвенел. Веревки коварно зашуршали, вода забурлила, и все кончилось.
Жить мирной, спокойной жизнью?..
В еврейском городе, несмотря на ночное время, люди стояли кучками у каждой двери и шушукались.
Поздним вечером распространился слух, что король подчинился настояниям шефенов и подписал эдикт об изгнании. Еще в тот же вечер староста Элия Мунка отправился в замок, попросил доложить о себе старшему гофмейстеру Ладиславу фон Пернштейну, был принят им, — что, несомненно, можно было рассматривать как успех, хотя о содержании их беседы ничего не было известно. Но одновременно с этим в верхнем городе распространилась весть о том, что случилось после этой беседы. Беседа происходила с глазу на глаз, а сцену на дворе видели те, кто сопровождал старика Мунку. Молодой франт, — говорят, это был шут короля, — подошел к старику с хлыстиком в руке. Под хохот придворных он сказал, что благодарит за пятьдесят дукатов и приносит обещанный хлыст. Правда, это не хлыст короля, а самый обыкновенный хлыст, но зато еврей может почувствовать его не только рукой, но и лицом. И с этими словами шут подошел к почтенному старику и несколько раз ударил его хлыстом.
— Раны с палец глубиной, — рассказывал кто-то из кучки, к которой подошел Давид.
Другие еще старались превзойти его. Врач, который только что был у старшины, будто бы сказал, что причинено опасное для жизни увечье.
— Но это еще не самое худшее, — пропищал фистулой маленький портной Ефраим.