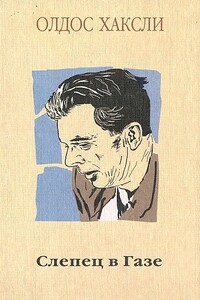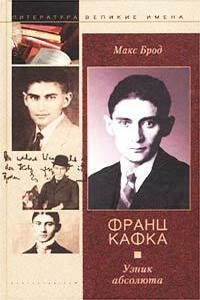Вечером Реубени отсылает учеников, оставляет только одного — прислуживать больному. Через два часа его сменяют. Так они чередуются до утра. Остается только Реубени. Его удерживает у этой постели беспорядочная борьба чувств.
Он уже не сердится на юношу. Ведь тот не виноват. Он иначе не умеет. Он ратует за букву закона, который любит с тем большей страстью, чем больше его разлучают с ним. «А я, я сам хотел уйти от него, как от всех маранов, как от всякой опасности для моего великого плана. Но он не позволил отвергнуть себя, с силою схватил отстранявшую его руку и этим победил меня».
Реубени ударяет себя кулаком. Ему хочется ощущать боль. Он отстранил этого молодого дикаря, чтобы не подвергать свой план опасности. Но именно это Мольхо принял как какой-то тайный призыв. «Какая нелепость!.. Именно то, чем я хотел его отпугнуть, толкнуло его на поступок, полный мрака и безумия — и какая опасность грозит отсюда для всех, для всего народа, для близкого спасения Израиля.
Подумал ли он об этом?
Конечно, нет, он ни о чем не подумал. Только на мне лежит с давних пор гнетущее бремя думы! а он ни о чем не подумал, и, тем не менее, сейчас мне кажется, что виноват не он, а я. Да, не он: в своей благородной сердечной простоте он никогда не может быть виноват!
Умереть с прекрасным юношей, который так легко дышит, — это было бы самое лучшее! Без забот, без этой тяжести в висках, которая никогда меня не покидает!»
Реубени склоняется к бледным устам, вздрагивающим от времени до времени от боли и вместе с тем от удовлетворения — в глубоком сне, словно в конце пути. Он едва противостоит соблазну поцеловать эти чистые уста. «О, если бы он мог взять у них в поцелуе хоть частицу их бесконечного спокойствия!»
Радостное спокойствие благого дела! Сердце удовлетворено и затихло, совсем затихло!
В полночь в комнату входит, не постучавшись, какой-то человек. Оскаленное в улыбку лицо негритянского типа. Дряхлые морщины, редкие зубы между выпяченными губами, широкий придавленный нос. Глаза мигают.
— Кто это? — вскакивая, спрашивает Реубени.
Старик вежливо кланяется:
— Хозяин этого дома. Меня зовут Альдика.
— Маран?
— О, нет, — я верный сын церкви.
— Значит, хитрец, который ни в чем не признается. А мне сказали…
— Клевета.
И здесь Мольхо снял комнату без дальнейших размышлений! Какая неосторожность! Следовало бы оставить его здесь одного вместо того, чтобы делать этого человека, с негритянской внешностью, хранителем всей тайны спасения Израиля. Но немыслимо оставить умирающего.
Все заботы, все мысли снова, как железные балки, обрушиваются на голову Реубени.
— Ты не скажешь ни слова о том, что ты тут видел? — кричит он на хозяина, который все время улыбается, даже стоя у постели больного.
— Конечно, нет, — но все-таки это рискованно…
— Дай ему крузадо, — приказывает cap ученику.
Альдика взвешивает золотую монету на ладони:
— Я купил новый замок и повесил внизу на двери.
— Дай ему еще два.
Извиваясь, как змея, это низкопоклонное существо исчезает. Не видно даже, как он отворяет дверь. Такой всюду пролезет.
«И всегда мне приходится заниматься подобной мерзостью. Он вот спит себе в своей чистоте и так проспит до смерти, не заботясь о том, что творится кругом. Излить свою жизнь в великом порыве, принести самого себя в жертву, — разве можно сделать больше! И разве это не выше, чем все муки, вся грязь, из которой я не знаю выхода?»
Больной вздрагивает. Маленькая лампочка мигает.
Никто не дает ответа на вопросы этой ночи.
На выздоровление Мольхо почти не было надежды. Но произошло чудо.
По распоряжению Реубени его ежедневно посещали ученики.
Ему не приходилось настаивать. Они ходили охотно. Поступок Мольхо представлялся им прославлением имени Божьего, триумфом их господина и дома Иакова, который с каждым днем ограждается новыми мощными стенами.
Сам Реубени больше туда не ходил. У него были дела поважнее. Заслуживал ли этот молодой маран того, чтобы он столько думал о нем? К тому же много времени отнимали переговоры с двором. По два-три раза в неделю Реубени приходилось ездить в резиденцию в Альмерим — его докладная записка изучалась советниками короля, и от него постоянно требовали новых разъяснений. Король тоже снова пригласил его к себе. Снова Реубени должен был доказывать, что он не позволяет маранам целовать ему руки. Затем король порицал, что ученики стоят, когда cap сидит за столом, так как это тоже королевская привилегия. Реубени, не дрогнув в лице, должен был обещать, что он запретит в дальнейшем такие подозрительные церемонии.