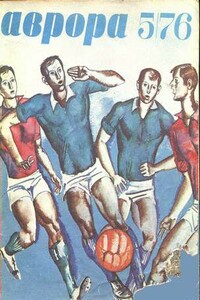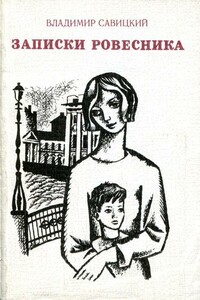Три версты до амбулатории Маргарита отмеривала пешком. Это давала ей возможность по пути, два раза в день, утром и вечером, улыбнуться могиле сына; на обратной дороге, если было сухо, она задерживалась возле ограды, отдыхала на бугорке, на траве. Только зимой, когда и могилы, и ограду сплошь заносило снегом, она пользовалась лошадью, безропотно ей предоставлявшейся вместе с санями и мальчишкой-кучером: такого искусного врача в здешних местах вообще никогда не видывали, а Маргарита принимала, разумеется, не только как гинеколог — ближайший терапевт находился в районном, хирург — в областном центре. Она не отказывала ни одному больному; не могла справиться сама — направляла в больницу, да так сурово и настойчиво, что и самые косные, и самые занятые не осмеливались ей перечить.
Ее собирались даже депутатом выдвинуть — человек толковый, профессионально на уровне и в то же время очень свой. Отговорилась: возраст не тот, силенок и так еле-еле хватает.
О городской жизни она не только не жалела, но и не вспоминала почти никогда — прошлого будто не существовало. Да и что она там оставила? Равнодушный к ее судьбе муравейник, где лишь пять-шесть человек из нескольких миллионов разделяли ее горе… Здесь же все знали и ее, и ее долю, здесь все с ней здоровались, и не из вежливости просто или по привычке, а искренне желая ей добра, уважая ее знания, ее труд, здесь с ней охотно делились необходимым — общеизвестно было, что жалованье докторша получает никакое, а платы ни с кого не берет.
Летом, в воскресные дни, она по нескольку часов сиживала на могиле, читала, шила что-нибудь, размышляла. Перебирала годы, события, запомнившиеся дни, упрекала себя за то, что не всегда уделяла мальчику достаточно времени, бывала с ним сурова, не баловала, как другие… Хорошо, сын умер не у нее на руках: увидев воочию, как гаснет в нем жизнь, она не могла бы ощущать его таким живым, как сейчас. Он ушел из жизни без нее, сам, и находится с той поры здесь вот, под землей. Сколько их разделяет — два метра? Множество родителей годами не видят своих взрослых детей, поссорившихся с ними или просто уехавших искать счастья, — разве одна-две открытки в год сокращают расстояния, меняют что-нибудь, спасают от одиночества? Она, по крайней мере, и н е м о ж е т увидеть сына, зато она находится так близко к нему, как это только возможно. Бедняжкам, чьи сыновья лежат по всей Европе, хуже, чем ей, гораздо хуже… А некоторые и вовсе не знают — где, что, как…
Будь у нее еще дети, тогда и дело другое, тогда оставался бы еще невыполненным долг перед ними — довести до какого-то рубежа, приглядеть, подправить, не дать впасть в уныние, выслушать исповедь смятенного сердца, подставить старую руку, дабы смягчить возможный удар… Одинокая, она могла, под конец жизни, позволить себе роскошь быть с тем, с кем заблагорассудится, — сама судьба подсказала ей такое решение.
Впрочем, и долг — все тот же вечный долг… Разве не в том он теперь, чтобы внести посильную лепту в общий котел деревни, приютившей напоследок ее мальчика? Многократно униженной и опустошенной, трижды, четырежды обескровленной, нищей деревни, которая стоит несмотря ни на что и делает теперь нечеловеческие усилия, чтобы подняться в очередной раз. И как врач она здесь больше на месте, чем в городе.
Когда приезжала Валя, они сидели у могилы вдвоем.
— Ты… счастлива здесь? — спросила как-то сестра.
Маргарита взглянула отрешенно: она — счастлива?! Наивное, давно забытое ею словосочетание…
Помолчав, сказала:
— Я — в порядке, Валюша. Мне наконец-то покойно. Знаешь, приблизительно такое же ощущение бывало в юности, когда-я на каникулы приезжала домой, в Крым. Ты не тревожься.
Полагавшийся ей отпуск Маргарита полностью не использовала — отдыхать лучше всего было здесь, да и заменять ее было некому. Ездила на недельку в Ленинград — навестить Валю, повидать знакомых, поболтать с сослуживцами в «своей» поликлинике, раздобыть лекарств, походить по магазинам (заказы подкидывала чуть ли не вся деревня). На обратной дороге обязательно заглядывала на денек-другой в Москву, к молодой женщине по имени Ирина: мальчик заочно их познакомил.