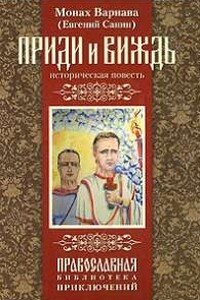Из беседы с художником Латастером. Мастерская, похожая на ангар для «Цеппелина». Перед поездкой в Нюрнберг на открытие выставки его картин. Амстердам. Апрель, 1984 год.
— Господин Латастер, можно взглянуть на Рембрандта с высоты сегодняшнего дня?
– Отчего же? Каждая эпоха по-своему оценивает произведения искусства. Правда, при этом бывают и промахи.
– Что вы имеете в виду?
– Всякие недоразумения. Возьмем, к примеру, пьесы Шекспира. Создается впечатление, что современники драматурга и их ближайшие потомки не совсем отдавали себе отчет в том, что есть Шекспир. Думаю, то же самое можно отнести и к самому драматургу. Подумайте: в своем завещании он даже не вспомнил о пьесах. Он просто не придавал им значения. Это была его профессия, и не совсем почтенная в те времена. А что сказать о нашем соотечественнике Яне Веермере из Делфта? Ведь его начисто забыли бы, если бы не прошлый век, когда художника «открыли» случайно. Одно ясно: странный был художник, мастер или маляр – называйте как угодно! – этот Рембрандт, сын мельника из Лейдена.
– Странный, господин Латастер?
– Именно! Это самое подходящее слово. Я объясню, почему думаю так, а не иначе. Его не понимали. Да, да! Его искусство стояло выше эстетического вкуса общества, в котором жил и работал художник. Говорят: «успех «Анатомии», успех «Ночного дозора», успех «Синдиков», успех «Данаи»! Позвольте: успех у кого? У таких просвещеннейших людей, как Гюйгенс, Тюлп и другие? Но это же была в общем-то кучка доброжелателей. Поэтому я считаю, что Рембрандт был вроде бы странный художник, не от мира сего: он проиграл битву материальную, но выиграл творческую.
– Как жаль, что нет документов, скажем, писем, написанных лично Рембрандтом. Дошедшие до нас письма – их всего шесть – касаются выполнения заказов принца Оранского, и одно письмо, тоже деловое, к маркизу Антонио Руффо.
– Но обратили внимание, что в одном из них Рембрандта волнует, как висит его картина в Гааге? Он даже собирался поехать туда, чтобы лично убедиться в том, как она повешена. А Гюйгенсу пишет, как повесить картину и как на нее должен падать свет. Любопытно и то, что Рембрандт смело менял композицию в процессе работы. Помните, что он пишет к Руффо? Мол, холст пришлось удлинить. Видите ли, ему не хватило его. А что касается «Ночного дозора» – размеры картины были изменены не им. Она не умещалась на стене. Из копии английского художника мы знаем, что была срезана левая сторона картины и верх ее.
– Левая, если смотреть на нее?
– Да, именно так. Но я не думаю, грешным делом, что композиция очень пострадала от этого. Вот разве что верх. Воздуха поубавилось немножко. Эту картину публика вовсе не поняла. Я думаю, – хотя всякие аксиомы и категорические утверждения в искусстве всегда рискованны, – думаю, что в «Ночном дозоре» Рембрандт достиг Эвереста живописи, композиции и воплощения идеи. Их общей слитности. И в этом была его беда. Люди, привыкшие к групповым портретам, где фигуры мало чем связаны между собой, возопили и художника, я бы сказал, предали анафеме. Его попросту стали забывать.
– Не усматриваете ли вы героизм художника в том, что он все-таки продолжал идти своим путем, что не стал угождать кому-либо, вопреки своим убеждениям?
– Это несомненно так. Великий мастер выстоял. Каждый, кто идет своим, и только своим, путем, чем-то должен расплачиваться. Вам нужен хлеб с маслом? Угождайте! Ах, вы желаете финтить, то есть идти своей дорогой? Довольствуйтесь черными сухарями! Таков урок Рембрандта. И оттого он кажется странным…
Из беседы с директором Исторического музея господином Бобом Хааком. Амстердам. Апрель, 1984 год.
— Была в его характере одна черта, которая вызывает особое уважение к Рембрандту. Это – интерес не только к своим предшественникам, но и к современникам. Вы, наверное, знакомы с описью имущества Рембрандта, которое продавалось с молотка?