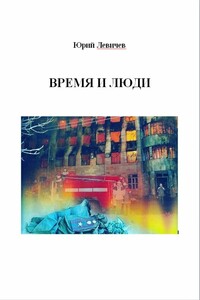На циклотроне в лаборатории Джелепова рождаются необычные частицы — мюоны. Эксперименты с такими частицами проводятся во многих лабораториях мира. Эта область науки далека от меня, этим в лаборатории Флерова никогда не занимались. Но случилось так, что во время моей работы в Копенгагене я как-то задумался над тем, что изучение открытого нами в Дубне явления неплохо было бы продолжить с помощью мюонов. И я даже эксперимент придумал, но бурные события в Дубне отодвинули эту мысль на задний план. Теперь я вспомнил копенгагенскую идею. В лаборатории Джелепова я смогу над ней поработать. У меня появилось чувство, что судьба словно направляет меня на уже приготовленный путь. Совершенно случайный ход мыслей в Копенгагене приводит меня после нескольких месяцев неопределенности к двери в новую жизнь. В тот же день я уже разговаривал с Джелеповым.
— Вам надо сходить к Боголюбову. Я уверен, что он не будет возражать против вашего перехода к нам, и даже выделит для этого штатную единицу. Со своей стороны я должен вас предупредить, что у меня нет людей, которые могли бы работать с вами. Рассчитывайте больше на иностранцев.
Разговор с директором института Боголюбовым был коротким.
— Николай Николаевич, я не хотел бы уезжать из Дубны. Я был в Киеве, посмотрел все там и, честно говоря, если можно, предпочел бы остаться в Дубне у Джелепова.
— Вот и хорошо, — дружелюбно заметил Боголюбов. — Я рад, что вы остаетесь в Дубне.
Хитро улыбаясь, он добавил, что дело с переводом надо так провести, чтобы Флерову нельзя было к чему-нибудь придраться.
— Для начала напишите заявление на его имя с просьбой отпустить вас из его лаборатории в связи с переходом к Джелепову. Сделайте это для порядка.
После разговора с Джелеповым и Боголюбовым я снова почувствовал, что мир не без добрых людей.
Секретарь Флерова, взяв у меня заявление, прочитала его и улыбнулась. Когда часа через полтора я снова зашел к ней, она сказала, что заявление не подписано Флеровым и он хочет со мной встретиться.
— Почему вы не хотите ехать в Киев? — с этого вопроса началась наша последняя беседа.
— Это мое дело, и я не собираюсь обсуждать его с вами, — напоследок я мог поддразнить человека, который когда-то был моим идеалом.
— Вы должны понять, что в Киеве строится новый циклотрон, и там нужны опытные люди. Вы можете создать там школу.
— Я могу без этого обойтись. Все, что мне от вас нужно сейчас, так это ваш автограф на моем заявлении.
Подперев, как обычно в минуты размышлений, верхнюю губу средним пальцем правой руки, Флеров задумался. О чем? Вспоминал, как мы на Урале вместе работали с килограммами плутония, или то время, когда его старые сотрудники ушли от него, а я остался? Вряд ли. Он, по-моему, не был романтиком и не знал, что такое сентиментальность.
— Знаете, Сережа, — меня словно обожгло от такого обращения, — у меня есть предложение. Уйдем из лаборатории и погуляем по лесу.
Мы вышли из лаборатории и некоторое время шли молча.
— Вы, Сережа, мой первый ученик. Через неделю выборы в Академию наук. Вы находитесь в списке кандидатов, и я очень хотел бы, чтобы вас выбрали в члены-корреспонденты. Давайте договоримся так: я беру свое заявление из партийного бюро, а вы из партийного комитета.
— Я согласен.
Через пятнадцать минут мое заявление с подписью Флерова было у Джелепова. Членами-корреспонцентами выбрали двух человек, и я оказался первым за ними по числу набранных голосов. Мне рассказывали, что перед выборами Георгий Николаевич Флеров, академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и двух Государственных премий, с ног сбился, уговаривая голосовать против меня, «его первого ученика». Я, кстати, его своим учителем не считал.
Через несколько лет после моего последнего разговора с Флеровым мне довелось разговаривать с одной американкой, физиком, бывавшей в Дубне. Она восхищается Флеровым, он ей страшно нравится, он очарователен.
— Вы думаете иначе? — спросила меня дама, заметив, что я не слишком склонен восторгаться Флеровым, пленившим мою собеседницу.
— Я вас понимаю.
Я действительно понимал, чем очаровал американку Флеров, потому что намного лучше ее знал, что он может быть обаятельным. Но знал я и то, что было неизвестно американке, а именно, что, встретив Флерова много лет тому назад, я увидел в нем не только героя советской атомной эпопеи, человека железной воли, не отступающего перед трудностями, но и человека с безграничным честолюбием, ради достижения своих целей готового на все, не жалеющего окружающих. Когда его сотрудники отвернулись от него, я остался с ним, и несомненно был момент, когда, глядя на нас со стороны, можно было нас и за друзей даже принять. А потом пришло то, что, пожалуй, можно было бы даже назвать пониманием. Я увидел в своем кумире нечто, что никак не мог принять, что было противно моей натуре. Он тоже почувствовал изменения во мне, и с этого момента было ясно, что наши пути разойдутся. Было лишь неясно, когда это произойдет. И, конечно, не совсем верно утверждать, что он не был моим учителем.