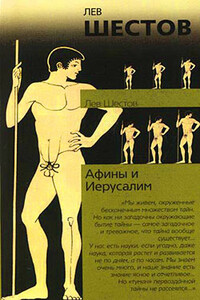Все это образы, которые наиболее полно отражают в себе отношение Толстого к жизни. Толстой, однако, настаивает, что он был духовно и физически здоров: он мог просиживать по 8-10 часов за работой в кабинете и не отставал от мужиков в поле за косьбой. Все это так, но в здоровье человека, которого преследуют восточная сказка, легенда о Шакья-Муни и стихи Экклезиаста, плохо верится. Правильнее было бы, если бы Толстой повторил то, что сказал о себе 15 лет тому назад: “Я чувствовал, что я не совсем здоров, и долго это продолжаться не может”. Да собственно говоря, в его “Исповеди” встречаются такие описания его душевного состояния, которые прямо говорят в пользу нашего предположения. “Случилось, — рассказывает он о себе, — то, что случается с каждым, заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются все чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принял за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, есть смерть”. Если принять еще в соображение, что Толстому тогда не было еще пятидесяти лет, что физически он и в самом деле был крепок и силен, что жизнь его сложилась так благоприятно, как только он мог того желать, т. е., иными словами, что все ужасы, испытанные Толстым, были беспричинны (в обыкновенном смысле этого слова), то нет никакого сомнения, что психиатр ни минуты не колебался бы в диагнозе и предложил бы свои услуги и свой опыт для лечения. Но если мы и готовы согласиться с диагнозом психиатра, то все-таки мы не можем не радоваться, что при втором, как и при первом кризисе, Толстой никому не вверил своей судьбы и сам стал лечить себя.
Гейне передает, что у негров существует поверье, что заболевший лев старается поймать обезьяну и разорвать ее, и таким способом излечивается. Толстой, обыкновенно, тоже так лечится. В первое же свое заболевание он с бешенством набросился на обезьян. Он разрывал на части и Наполеона, и военную науку, и педагогику — и, как мы знаем, надолго оправился от своей болезни. Во второй раз повторилось то же. Он стал искать обезьян и, конечно, нашел их в достаточном количестве: современная действительность, вернее, действительность вообще представляет в этом отношении разве только embarras des richesses. [4] Он напал на культурное общество, прогресс, медицину, церковь и с неутомимостью и силой человека, только что взглянувшего в лицо смерти, наносил удары направо и налево, никому и ничему не давая пощады: прочтите не только “Исповедь”, прочтите “Перепись в Москве”, “В чем моя вера”, “Так что же нам делать?” Как и в первый раз, Толстой помиловал только Каратаева — смиренный, многострадальный русский народ. Но и то ненадолго. Постепенно угасала в нем и вера в народ, уступив место вере в Бога — добро, о которой у нас и будет сейчас речь.
Пока установим тот факт, что с Толстым во второй раз произошло чудесное превращение. Во второй раз он сам принужден был разрушить мир и сам же создать новый. Настаиваю на слове “принужден”. Все, что рассказывает Толстой в своей “Исповеди” и в других сочинениях второго периода, все дышит необыкновенной искренностью, все правдиво. Паскаль сказал когда-то: “Je ne puis approuver que ceux qui cherchent en gémissant”. [5] Толстой пришелся бы по вкусу Паскалю. “Я мучительно и долго искал, не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно и упорно, дни и ночи, искал, как ищет погибающий человек спасенья”, — читаем мы в “Исповеди”. Пред ним стояла смерть — и несмотря на то, что она уже второй раз явилась и что, как казалось бы, на этот раз Толстой, наученный прежним опытом, должен был бы знать, что с ней возможно бороться и что даже ее победить можно, он так же ужаснулся, как и в первый раз, словно бы ему показалось, что это другая, новая, еще невиданная смерть. Три года проводит он в безумной, отчаянной борьбе с ней и снова выходит победителем. Теперь, как в свое время Пьер, он утверждает, что уже больше не боится смерти, что он больше не боится ничего в мире. Но если снова придет она, — что будет с Толстым? Узнает ли он ее теперь? Или опять ему покажется, что она является впервые? В самом ли деле он так спокойно встретит ее, или снова всколыхнутся в нем все присмиревшие ужасы, снова начнется титаническая нечеловеческая борьба, разрушение и созидание миров? — Не знаю, как смотрят другие, не знаю, что думает сам Толстой, но для меня весь смысл изучения великого земного дела великого русского писателя в этом вопросе. И мне кажется, что каждый раз, когда Толстой соприкасается с матерью смертью, в нем рождаются новые творческие силы. Оттого, вероятно, меня преимущественно влечет к себе Толстой измученный, растерянный, испуганный, изнемогающий, и я более равнодушен к Толстому торжествующему, к Толстому победителю, Толстому учителю. Когда я в сотый раз читаю “Смерть Ивана Ильича”, “Крейцерову сонату”, “Три смерти” — у меня дух захватывает. Я чувствую, говоря словами Лютера, что Бог взял в руки свой страшный молот-закон, но я также чувствую, что страшный молот — в руках Бога.