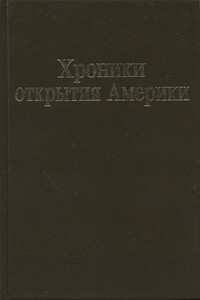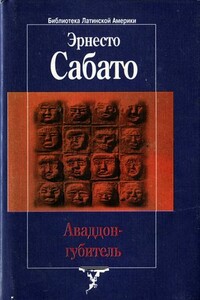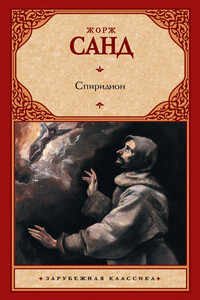— Такие вещи с маху не решают, — сказал Бермудес. — Дай мне дня два на размышление.
— И получаса не дам, отвечай немедленно, — сказал Эспина. — В шесть часов я должен быть у президента. Согласишься — поедешь со мной во дворец, я тебя представлю. Нет — катись в свою Чинчу.
— Обязанности свои я, в общем виде, представляю, — сказал Бермудес. — А жалованье какое положите?
— Жалованье довольно приличное, да еще представительские, — сказал Эспина. — Тысяч пять-шесть. По моим понятиям, не очень много.
— Если не роскошествовать, протянуть можно, — скупо улыбнулся Бермудес. — А поскольку запросы у меня скромные, мне хватит.
— Тогда — все! — сказал полковник. — Но ты ведь мне так и не ответил. Глупо я поступил, назвав твое имя?
— Время покажет, — снова полуулыбнулся Бермудес.
Вы спрашиваете, дон, правда ли, что Горец так и не узнал Амбросио? Когда Амбросио был шофером дона Кайо, он тысячу раз открывал перед Эспиной дверцу, тысячу раз возил его домой. Так, надо думать, он его превосходно узнал, но так этого и не показал. Эспина ведь в ту пору был министром и стеснялся, что тот знал его раньше, когда он пребывал в ничтожестве, ну, и, конечно, ему не нравилось, что Амбросио помнит про его участие в той давней истории с Росой. Понимаете, он его выбросил из головы, просто смыл из памяти, чтобы это черное лицо не наводило на печальные воспоминания. Он обходился с Амбросио так, словно в первый раз этого шофера видит. Здравствуй — до свиданья, вот и весь разговор. Теперь вот что я вам скажу, дон. Да, конечно, Роса очень сильно подурнела, пятнами вся покрылась, но мне ее все-таки жалко. Как-никак она его законная жена, верно? А он ее оставил в Чинче, когда стал важной персоной, и ни крошечки ей не перепало. Как она жила все эти годы? Ну, как жила: жила в своем желтеньком домике и сейчас еще, наверно, живет, скрипит помаленьку. Дон Кайо с нею поступил по-порядочному, не как с сеньорой Ортенсией, — назначил ей содержание, а ведь ту совсем без средств оставил. Он часто говорил Амбросио: напомни мне послать Росе денег. Чем она занималась? Кто ж ее знает, дон. Она и раньше-то жила замкнуто — ни подруг у нее не было, ни родных. Как вышла замуж, так больше никого и не видела из своего поселка, даже с Тумулой, с мамашей своей, не виделась. Я-то уверен, это дон Кайо ей запрещал. И Тумула на всех углах проклинала дочку, что та ее в дом не впускает. Да дело даже не в том: ее, Росу то есть, не принимали в порядочном обществе, да и смешно было бы на это надеяться — кто ж станет водить дружбу с дочкой молочницы, даже если она и вышла замуж за дона Кайо, и носит теперь башмаки, и мыться научилась. Все ведь помнили, как она тянула своего ослика за узду, как развозила молоко по городу. И Коршун вдобавок не признал ее невесткой. Что тут будешь делать? Одно и остается — затвориться в четырех стенах, в той квартирке за больницей Святого Иосифа, которую дон Кайо нанимал, и жить монашкой. Она носу оттуда не высовывала, потому что на улицах в нее пальцем тыкали, стыдно было, да и Коршуна она побаивалась. А потом уж привыкла. Амбросио иногда встречал ее на рынке или видел, как она, бывало, вытащит корыто на улицу и стирает, на колени вставши. Не помогли ей ни сметка ее, ни упорство — захомутала белого, ну и чего добилась? Получила фамилию, перешла в другое сословие, зато потеряла всех подруг и при живой матери жила сиротой. Дон Кайо? Ну, дон Кайо сохранил всех своих приятелей, пил с ними по субботам пиво в «Седьмом небе», играл на бильярде в «Раю» или в заведении с девочками, и говорили, что берет он в номера всегда двух сразу. Нет, с Росой он нигде не показывался, даже в кино ходил один. Что он делал? Служил в бакалее Крузов, в банке, в нотариальной конторе, потом стал продавать трактора окрестным помещикам. Годик они прокантовались в той квартирке за больницей, потом, когда дела получше пошли, наняли другую, в квартале Сур, а Амбросио к тому времени работал уже шофером на междугородных перевозках, в Чинче бывал редко и вот в один из своих приездов узнал, что Коршун помер, а дон Кайо с Росой перебрались в отчий дом, к донье Каталине. Она скончалась одновременно с правительством Бустаманте. Когда же у дона Кайо все так круто переменилось и он при Одрии пошел в гору, все стали говорить, что вот, мол, теперь Роса выстроит собственный дом, заведет прислугу. Ничего подобного, дон. В местной газетке появились фотографии дона Кайо с подписями «наш прославленный земляк», и вот тут-то мало кто не пошел к Росе на поклон — подыщите местечко для моего мужа, выбейте стипендию для сына, моего брата пусть назначат учителем сюда, а моего — префектом туда. Приходили родственники апристов и сочувствующих, плакались: пусть дон Кайо прикажет выпустить моего племянника, пусть дядюшке разрешат вернуться в страну. Вот тогда-то Роса сполна отыгралась на них за все, тут-то она с ними расквиталась, да еще с процентами. Рассказывали, она всех встречала на пороге, дальше дверей не пускала, выслушивала с самым идиотским видом: вашего сыночка забрали? Ах, какая жалость! Местечко для вашего пасынка? Что ж, пусть прокатится в Лиму, поговорит с мужем, а засим до свиданьица. Но все это Амбросио знал понаслышке, он тогда тоже уже обосновался в Лиме, разве вы не знали? Кто его уговорил разыскать там дона Кайо? Мамаша его, негритянка, Амбросио-то не хотел, говорил, что, по слухам, он всех своих земляков, о чем бы те ни просили, посылает подальше. Его, однако же, не послал, ему-то он помог, и Амбросио ему обязан по гроб жизни. Да, не любил он свою Чинчу и земляков ненавидел, бог его знает за что, ничего для города не сделал, паршивенькой школы не выстроил. Время шло, и когда люди стали бранить Одрию, а высланные апристы — возвращаться, субпрефект распорядился даже поставить у желтого домика полицейского, чтоб кто не вздумал свести с Росой счеты, так что, сами видите, дон Кайо любовью земляков не пользовался. Глупость, конечно, беспримерная: все знали, что он, как вошел в правительство, с ней не живет и не видится и если ее убьют, он только спасибо скажет. Потому что он ее мало сказать не любил — он ее ненавидел за то, что стала такой страхолюдиной. А вам как кажется?