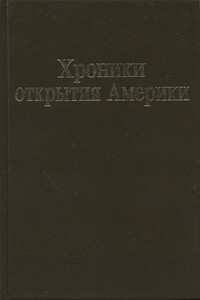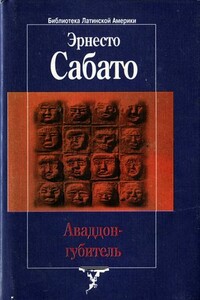— Помнишь, Савалита, здесь мы с тобой вели нашу первую мазохистскую беседу, — сказал он. — Здесь мы признались друг другу, что я не состоялся как поэт, а ты — как коммунист. Теперь мы просто два газетчика. Мы с тобой здесь подружились.
— Мне надо это кому-нибудь рассказать, иначе я сгорю, Карлитос, — сказал Сантьяго.
— Если тебе станет легче, я готов, — сказал Карлитос. — Только сперва подумай. Мне тоже иногда случалось изливать душу разным людям, а потом я не знал, куда деться от ненависти к тем, кто узнал мои слабости. Может быть, завтра, Савалита, и ты меня возненавидишь.
Но Сантьяго, не отвечая, снова заплакал. Он согнулся над столом, захлебываясь от рыданий, не отнимая ото рта носовой платок, чувствуя на плече руку: ну-ну, успокойся, слышал его голос:
— Ну, что, Бесеррита нажрался и сказал тебе про отца при всем честном борделе? — мягкий, думает он, чуть застенчивый, сочувственный.
Нет, Савалита, это случилось не в ту минуту, когда ты услышал это от Кеты, а тогда, в баре «Негро-негро», когда понял, что вся Лима, кроме тебя, знает, что твой отец — педераст. Вся редакция, кроме тебя, думает он. Заиграл пианист, в полутьме засмеялась женщина, он почувствовал горький вкус пива, подошел официант с фонариком: забрал пустые бутылки, поставил новые. Теребя платок, вытирая глаза и губы, ты говорил, Савалита. Мир не рухнет, ты не сойдешь с ума, Савалита, не покончишь с собой, думает он.
— Ты же знаешь, у девок язык — как бритва. — Карлитос то откидывался к стене, думает он, то нависал над столом и тоже был удивлен и испуган. — Она выпалила это, чтоб отплатить Бесеррите, чтоб заткнуть ему рот: ведь ей пришлось по его милости пережить несколько неприятных минут.
— Они говорили про него как про тебя, — сказал Сантьяго. — И я сидел там, Карлитос.
— Самое мерзкое — не эта история с убийством: это-то, я полагаю, брехня, Савалита. — Карлитос тоже запинался, думает он, и тоже противоречил себе. — А то, что ты узнал, и главное — от кого узнал. Я-то думал, ты в курсе.
— Эта ужасная кличка, и эти слова — «его любовник, его шофер», — сказал Сантьяго. — Так, словно они его знают всю жизнь. Его имя треплют в публичном доме. И я — там. Там, Карлитос.
Этого не может быть, Савалита, подумал ты и закурил, это — ложь, и выпил глоток пива, и голос изменял ему, когда он повторял «этого не может быть». И на фоне ко всему безразличных карикатур из «Нью-Йоркера» плавало размытое дымом лицо Карлитоса: тебе кажется это ужасным, Савалита, но, поверь мне, бывает и хуже. Ты свыкнешься, притерпишься, и будет тебе наплевать на это, и он потребовал еще пива.
— Я тебя накачаю сегодня, — гримасничая, сказал он, — тебе будет так скверно, что ни о чем другом думать не захочется, — еще немного — и ты поймешь, что не стоило так горевать, Савалита.
Но напился Карлитос, думает он, как теперь напиваешься ты. Карлитос поднялся и пропал в полутьме, смех женщины замирал и звучал снова, пианист играл один и тот же монотонный пассаж: хотел накачать тебя, а напился-то я, Амбросио. И снова появился Карлитос: отлил не меньше литра, разве можно так тратить деньги, а?
— А зачем вам меня накачивать? — смеется Амбросио. — Это никому еще и никогда не удавалось.
— Вся «Кроника» знала, — говорил Сантьяго. — Когда меня не было, меня называли «сынок того педераста»?
— Не сходи с ума, Савалита, — сказал Карлитос. — Ты-то тут при чем?
— Никогда ничего не слышал об этом, — ни в школе, ни у нас в Мирафлоресе, ни в университете, — сказал Сантьяго. — Ведь если бы это было правдой, хоть что-нибудь-то до меня докатилось бы, я бы заподозрил неладное. Но ведь никогда ничего, Карлитос.
— По Перу вечно гуляет какая-нибудь сплетня, — сказал Карлитос. — Она так обкатывается, что становится вроде правды. Выбрось это из головы.
— А может быть, я не хотел знать? — сказал Сантьяго. — Пропускал все мимо ушей?
— Не собираюсь тебя утешать, тебя не в чем утешать, отрыгнув, сказал Карлитос. — Вот его стоит пожалеть. Если это брехня, то его опорочили и замазали так, что не отмыться, а если правда, то жизнь его, наверно, достаточно хреновая. Хватит об этом.