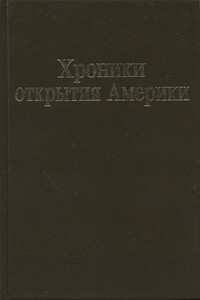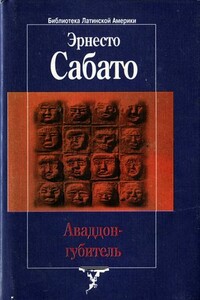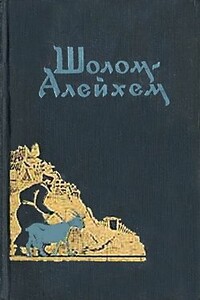— Родители уехали в Анкон[12], до понедельника не вернутся, — сказал Сантьяго. — А Чиспас за городом, в имении у своего приятеля.
— А если ей плохо станет? — спросил Попейе. — Если она у нас в обморок брякнется?
— Да мы немножко, — сказал Сантьяго. — Не трусь, конопатый.
Искорка вспыхнула в глазах Попейе: помнишь, мы в Анконе подглядывали, как Амалия купалась? С чердака? Столкнувшись головами, они прильнули к слуховому оконцу, замерли, а внизу — затушеванный силуэт, черный купальник — хороша штучка ваша горничная. Пара, сидевшая за соседним столиком, поднялась; Амбросио показывает на женщину: эта девица целый день сидит в «Соборе», клиентов караулит. Парочка вышла на Ларко, свернула за угол, на улицу Шелл. На остановке никого больше не было. «Экспрессы» и микроавтобусы ехали полупустые. Они подозвали официанта, расплатились, поровну разделив счет, — а откуда ты знаешь, Амбросио? — Да ведь «Собор» — не только бар-ресторан, — там, за кухней есть комнатенка, ее сдают по два соля в час. — Они шли по Ларко, разглядывая встречных женщин, девчонок, выходивших из магазинов, мамаш, которые везли коляски с орущими детьми. В парке Попейе купил «Ультима Ора», вслух прочел сплетни, проглядел спортивную хронику. На проспекте Рикардо Пальмы смяли газету и выбросили, и прошли вперед, а она осталась лежать далеко позади на углу, в квартале Суркильо.
— Здорово будет, если Амалия разозлится и выставит нас по шеям, — сказал Сантьяго.
— Да ты что? — воскликнул Попейе. — За пять фунтов можешь рассчитывать на королевский прием.
Они оказались возле кинотеатра «Мирафлорес», перед скоплением палаток, павильончиков, лотков: торговали цветами, фруктами, керамической посудой, доносились выстрелы, бешеный стук копыт, боевой индейский клич, восторженный ребячий вой. Они остановились у афиши: «Смерть в Аризоне», ковбойский боевик.
— Чего-то мне не по себе, — сказал Сантьяго. — Ночь не спал, наверно, поэтому.
— Вовсе не поэтому, а просто кишка у тебя тонка, — ответил Попейе. — Меня уговариваешь, что ничего не случится, «не трусь, конопатый», а как дошло до дела, — боишься. Пошли лучше в кино.
— Да ладно, все прошло, — сказал Сантьяго. — Подожди, посмотрю, предки отвалили уже или нет.
Машины не было, и они двинулись. Вошли через сад, миновали выложенный изразцовой плиткой фонтан: а если она уже спать легла? Значит, мы ее разбудим. Сантьяго отворил дверь, щелкнул выключатель, и из сумрака выступили картины, зеркала, ковры, столики с пепельницами, люстры. Попейе хотел было присесть, но Сантьяго не дал: пошли прямо ко мне. Патио, кабинет, лестница с железными перилами. На площадке Сантьяго оставил Попейе: иди ко мне, заведи какую-нибудь музыку, я ее сейчас приведу. Вымпелы — награда за прилежание, фотография Чиспаса, фотография Тете, снятая в день первого причастия, — какая хорошенькая, подумал Попейе, широкорылая ушастая свинка-копилка на шкафу. Попейе сел на кровать, включил радио в изголовье, вальс Фелипе Пингло — и сразу же шаги: все в порядке, конопатый. Она еще не спала, я сказал, чтобы принесла мне кока-колы, и оба засмеялись: тсс, идет, это она? Она остановилась на пороге, глядя на них удивленно и недоверчиво, потом молча шагнула от двери. На ней была розовая кофточка. Узнать нельзя, подумал Попейе, куда девалась та, в голубом передничке, которая с подносом или с метелочкой из перьев сновала по дому. Растрепанная — добрый вечер, — в мужских башмаках и заметно испугана, — привет, Амалия.
— Мама мне сказала, ты от нас уходишь, — сказал Сантьяго. — Очень жалко.
Амалия отделилась от притолоки, взглянула на Попейе — как поживаете, ниньо? — который приветливо улыбался ей с мостовой, и повернулась к Сантьяго: не по своей воле она уходит, сеньора Соила дала ей расчет. Да за что же, сеньора, а сеньора ей: так мне хочется, собирай свои вещи и чтоб духу твоего тут не было. Амалия говорила и приглаживала волосы, поправляла блузку. Видит бог, ниньо, она сама нипочем бы не ушла, она так просила-умоляла сеньору Соилу, чтоб оставила ее.
— Да поставь ты поднос, — сказал Сантьяго. — И не уходи, давай музыку послушаем.