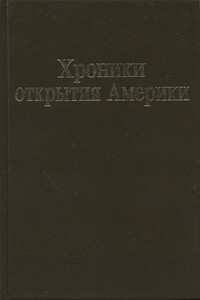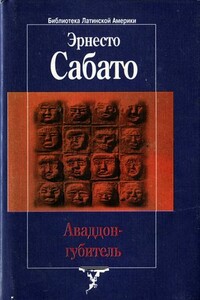— Ты слишком тянешь с этим, слишком тянешь. — Светлые, чистые глаза взглянули на него с укором. — Сколько месяцев, как ты не был дома? Четыре? Пять?
— Они же устроят мне ужасную сцену, мама будет рыдать и умолять меня вернуться. — Уже полгода, думает он. — А я не вернусь, пора им свыкнуться с этой мыслью.
— Столько времени не видеть мать, отца, брата с сестрой! И живете в одном городе. — Клодомиро недоуменно покачал головой. — Был бы ты моим сыном, я бы уже на следующий день разыскал тебя, надавал по шее и вернул домой.
А отец не разыскал, не надавал, не вернул, думает он. Почему, папа?
— Не хочу лезть с советами, ты уже взрослый малый, но позволь тебе сказать, что нехорошо с твоей стороны. Хочешь жить один — живи, хоть это и сумасбродство чистой воды. Но не видеться с родителями — это извини меня. Соила совершенно не в себе. И Фермин, когда приезжает спросить, как ты, что ты, где ты, тоже на себя не похож, пришибленный какой-то.
— Он может меня разыскать — пожалуйста, — сказал Сантьяго. — Может хоть сто раз возвращать меня домой силой, и я сто раз буду уходить.
— Он тебя не понимает, и я тоже, — сказал Клодомиро. — Ты недоволен, что он тебя вытащил из каталажки? Ты хотел посидеть с этими полоумными подольше? Не он ли во всем тебе потакал? Ни с Тете, ни с Чиспасом он так не носился. Скажи мне правду. Что случилось? За что ты на него взъелся?
— Мне трудно это тебе объяснить, дядя. Но пока мне лучше дома не бывать. Потом я съезжу, обещаю тебе.
— Да перестань же ты упрямиться, — сказал Клодомиро. — Ни Соила, ни Фермин не против того, что ты служишь в «Кронике». Они беспокоятся только, как бы ты не бросил университет. Они не хотят, чтобы ты пошел по моим стопам, сделался конторской крысой.
Он улыбнулся без малейшей горечи и вновь наполнил рюмки. Сейчас подадут чупе, издали долетел надтреснутый голос Иносенсии: бедная старушка почти ничего не видит.
Да что ж это за нахальство такое, совсем совесть потерял, — говорила Хертрудис Лама, — искать с тобой встречи после всего, что он натворил, вот ужас-то! Вот ужас-то, повторяла Амалия, но, понимаешь ли, он всегда был такой. Да какой такой? — спрашивала Хертрудис. А Амалия: он все время, под любым предлогом попадался ей на глаза — то в буфетной, то в комнатах, то в патио. Поначалу он и рта не раскрывал, а только посматривал на нее красноречивей всяких слов, а она боялась, что взгляды эти заметит сеньора Соила или кто из детей, и ей влетит. Много времени прошло, пока он не начал говорить. Что говорить? Говорить, что вот, мол, какая красоточка у нас завелась, и какое у нее личико — прямо весной пахнуло, а она все время была в страхе, ведь это было ее первое место, первая служба. Но мало-помалу успокоилась, поняв, что он хоть и нахал, но на рожон лезть опасается, даже, можно сказать, трусит: хозяев он, Хертрудис, больше боялся, чем я. Да что там господ: стоило появиться кому из прислуги — кухарке или второй горничной, он тут же исчезал. Но наедине с нею он стал уж давать волю рукам, а уж разговоры его делались вовсе бесстыжее. А ты что? — смеялась Хертрудис. А Амалия хлопала его по рукам, а однажды огрела по-настоящему. Ты ведь знаешь, Хертрудис, что мужики несут в таких случаях: ты меня приворожила, ты меня присушила, и все норовил сорвать поцелуйчик. Он так устроился, что выходные у них совпадали, узнал, где она живет, и однажды Амалия увидела, как он прохаживается у дома ее тетки в Суркильо, а ты небось смотрела на него в окошко и радовалась, засмеялась Хертрудис. Нет, я рассердилась. И кухарке, и другой горничной он нравился — какой высоченный, какой здоровенный, и как ему идет синяя тужурка, прямо мурашки бегут. А ей — хоть бы что, такой же, как все, ничего особенного. Чем же тогда он тебя взял? — спросила Хертрудис. Да наверно подарочками, которые оставлял у нее рядом с кроватью. Когда он в первый раз сунул ей какой-то пакетик в карман передника, она его вернула, даже не развернув, а потом — вот дура-то, правда Хертрудис? — стала брать и по ночам думала: а что сегодня он мне подарит? Черт его знает, когда он успевал пробраться к ней в комнату и оставить под подушкой то брошку, то браслетик, то носовые платочки. Так ты уж тогда была с ним? — спросила Хертрудис. — Нет, еще нет. А вот однажды когда тетки дома не было, а он появился под окнами, она — нет, ну ты подумай, какая дура! — спустилась к нему. Разговаривали посреди улицы, что-то ели у лотка, а на следующей неделе, в выходной, пошли в кино. Да? — сказала Хертрудис. Да. Тогда начались уже и поцелуи и прочее. С того дня он возомнил невесть что, решил, что права на нее получил, и однажды, когда они были вдвоем, он к ней полез по-серьезному, пришлось бегством спасаться. Он спал над гаражом, комната у него была больше, чем у горничных, там был и умывальник свой, и все, и вот как-то ночью, — что? что? — спросила Хертрудис, — когда господа ушли, а барышня Тете и ниньо Сантьяго уже спали, а у ниньо Чиспаса увольнение кончилось — ну? ну? — она, дурища безмозглая, заглянула к нему. И конечно, он уж ее не выпустил, такой оказии не пропустил. Тогда, значит, это случилось? — засмеялась Хертрудис. Знаешь, Хертрудис, как страшно ей было, как больно, как она плакала. Вот с той ночи стала она в нем разочаровываться, а Хертрудис — ха-ха-ха — ну, что ты ржешь, вовсе не потому, почему ты думаешь, у тебя одно на уме, что ты за бесстыдница такая, и меня в краску вогнала. Так чем же он тебя разочаровал? — сказала Хертрудис. В комнате было темно, они лежали, а он ее утешал, говорил все, что в таких случаях говорят, — я и не думал, что ты еще нетронутая, — целовал, и тут они услышали у самой двери голоса: хозяева вернулись. Вот, Хертрудис, тогда, Хертрудис, я и поняла, какое он ничтожество. Как же ты поняла? Как, как, очень просто: ладони у него сразу взмокли — спрячься, спрячься, — стал ее толкать под кровать, — замри, не шевелись, — а сам чуть не плакал со страху, ты подумай, Хертрудис, такой здоровила, — а потом зажал ей рот, словно она собиралась кричать или еще что. А отпустил ее, только когда хозяева прошли через сад к дому, и еще наврал: я боялся, как бы тебя не накрыли, как бы тебя не стали ругать, как бы тебя не рассчитали. И еще — что надо быть очень осторожными, сеньора Соила очень строга, спуску не даст. И до того странно ей было на следующий день, и смешно было, и хорошо, и стыдно, когда она потихоньку от всех отстирывала простыню, сама не знаю, зачем я тебе все это рассказываю, Хертрудис. А Хертрудис ей: потому что ты, птичка, уже позабыла Тринидада, потому что ты опять сохнешь по этому гаду Амбросио. Вот почему, Амалия.