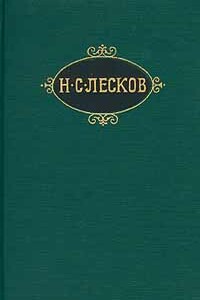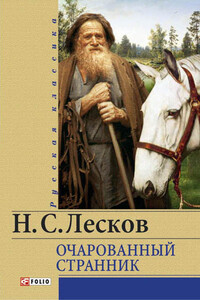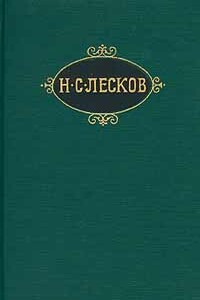Колокольцов. Да, да! ты ведь не Фридрих Великий, чтоб каждому жареную курицу мог к обеду доставить. Да и тот не доставил.
Молчанов. Извольте разбирать, пожалуйста: то социалист, то Фридрих Великий.
Мякишев. А больше всего, скажу я тебе, зять, ты шут.
Молчанов. Как это шут?
Мякишев. А так шут, коли ты на общую долю даешь, что еще самому годящее. Можно пожертвовать, кто говорит, мало ли купцы на что жертвуют, да только ведь жертвуют, так с умом жертвуют, с выгодой: или для ордена, либо что совсем нестоющее. А ты, накося, от себя рвешь, да на мир заплаты шьешь.
Колокольцов. Да; ведь именно прежде всего все мы, друг мой, мы общественные люди... Мы этим должны гордиться. Но мы несвободны - это самое первое... мы должны других слушаться... это наше коренное, наше русское... славянское...
Молчанов. Отстань ты от меня, пожалуйста, с твоим и с русским и с славянским! Говори, в чем дело?
Мякишев. А в том дело, что как ты по-своему, по-ученому полагаешь: может ли тебе общество затрещину дать?
Молчанов. Как это затрещину дать?
Мякишев. Так, взять да и вышвырнуть. Не надо, мол, нам, дуракам, такого умника. Не знаешь, как из общества исключают? Приговор напишут, да и выключат.
Колокольцов. Общественный, душа моя, суд. Общество в этом неограниченно. Я затем к тебе и пришел сегодня.
Молчанов. Ты пришел затем, чтобы сказать, что полицеймейстершу голую видел.
Колокольцов (недовольно). Совсем не то! Это... мм-м... это другое... Я пришел потому, что сегодня утром все наши первые фабриканты - Иван Петрович Канунников, Матвей Иванович Варенцов и Илья Сергеич Гвоздев - подали мне бумагу, что ты своими распоряжениями злонамеренно действуешь в подрыв нашей фабричной промышленности, и просят тебя ограничить. Я вот зачем пришел.
Молчанов. Ты, Иван Николаич, в эту минуту мне напоминаешь того анекдотического бурмистра, который начинал свое письмо барину с извещения, что в его имении все, слава богу, благополучно, а под конец прибавлял, что только хлеб градом выбило, скот подох да деревня сгорела. Что ж ты мне здесь торочишь про полицеймейстершу, про атлантических братии, про славянских братии, а не скажешь, что против меня затевают мои русские братия?
Колокольцов. Да ведь я к этому ж и вел, душа моя, когда говорил с тобой про Фирса. Я говорил, что он удивителен... я не могу сказать: оригинален, а именно удивителен. Как бы о нем что ни говорили, но я должен отдать ему справедливость, что он владеет удивительной силой убеждения. Как он ловко основал все это! Вот как это у него написано. (Вынимает бумажку и читает.) Мм... м... м... да вот! "Такие несоразмерные надбавки задельной платы в подрыв другим фабрикантам невозможны со стороны человека, радеющего о своих пользах и выгодах, а свойственны лишь расточителю, стремящемуся предать свое наследственное имущество чрез свою расточительность последнему разорению и окончить банкротством, которую рель общество обязано предупредить и отвратить, сколь в видах сохранения общественного кредита, столь же и для того, дабы семейство сего расточителя, доведенное им до нищенства, не осталось на руках и на попечении общества. А что Иван Молчанов есть расточитель, то сему, кроме сказанного, доказательства следующие: он, окромя прибавки платы рабочим, забыв родных детей, намеревался пожертвовать двести тысяч в пользу детских приютов и преподносит покупаемый им на свои деньга особый дом со строением мещанской женке Марине Гусляровой".
Мякишев. Нехорошо, зятек, нехорошо.
ЯВЛЕНИЕ 7
Те же, Анна Семеновна и Марья Парменовна.
Марья Парменовна (быстро входя и вводя за руки двоих детей. К мужу). Что ж ты это и после этого еще муж, а не разбфйник? Есть же еще где Пилат хуже тебя!
Мякишев. Марья! Марья! Марья! нехорошо, нехорошо так с мужем.
Марья Парменовна. Что вы, папенька, вмешиваетесь? Это не ваше дело совсем в это мешаться. Между мужем и женою никто мешаться не должен; а я именно, как дяденька Фирс Григорьич советует, я суд соберу, и пусть нас рассудят, потому что он вор.
Анна Семеновна. Да и хуже вора гораздо.
Молчанов. Что это такое? Как вы смеете приходить ко мне и говорить такие вещи?