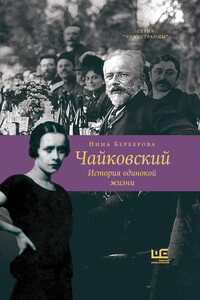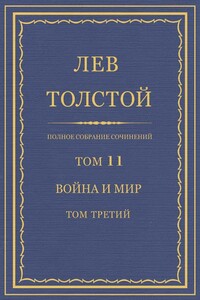Он был уже далеко, то есть был уже на улице, а она не двигаясь все стояла у шкафа. И вместо того чтобы думать о том, что именно помешало ей исполнить то, что она хотела, она думала о посторонних вещах: который теперь может быть час? Вот паутина висит с потолка. А что это там лежит такое? Как называется этот вид душевной болезни? Мания. Какая-то мания. Лимфо… литомания. Нет, что это я! Мифомания, от слова миф. Я выдумала историю, за которую, если бы написать ее, можно было бы получить деньги в такой вот газете. Я выдумала… Боже мой, а где же он-то? Боже мой, да ведь он бросил меня!
Шесть часов. У кассы горит лампочка под зеленым колпаком. Семь человек в одинаковых белых куртках бесшумно накрывают столики. Из кухни и с ледника с тихим шелестом поднимает подъемная машина закуски, вносят «тарт мэзон», облитый сливками. Кто-то перетирает стаканы — ножками вверх несет их… И Бологовский двигается туда и сюда, в похожем на аквариум свете, перебирая тяжелые мельхиоровые вилки. В четверть восьмого начинает вертеться входная дверь, входят первые клиенты, за ними другие. Сперва занимаются места в четырех углах зала, потом — в середине. Свет горит, голоса. Плывут горячие мисочки, тащут куда-то ведерко со льдом, шашлыки проносят на длинных вертелах… Зал наполняется. Восемь часов. Нет ни одного свободного места. Фортиссимо в невидимом оркестре, и потом — постепенное стихание голосов, движения, отлив людей, тарелок и рюмок (ножками вниз); подбирание салфеток, нагромождение стульев; одна лампа гаснет, другая, третья. Часы показывают десять, ровно десять. А на улице летняя ночь, майская ночь; Париж — тот же самый. Не верится как-то.
Он шел и думал, и мысли давались ему с трудом. Чувство же было одно — отвращение к ее наготе, к ее слезам, и, возвращаясь памятью к трем месяцам жизни с ней, все или почти все принимало этот оттенок — бесстыдства, грубости и лжи, не за что было ухватиться, так все было скользко, так гадко, и самым невыносимым было сознание какого-то неизжитого, напрасного обмана перед самим собой, — она была не она, и он был не он в этом соединении.
Он шел по улицам, во мраке и влажности этого вечера, не замечая людей, шедших мимо. На огни — он заходил, чтобы выпить, и душа — да-да, вот и доказательство ее существования! — душа его от спирта расправляла свои пыльные крылышки. Еще разок один брякнуть деньгами по цинку, хлопнуть под язык, почувствовать к плечам и ребрам бегущее тепло, то самое, которого ему было так мало. А вот опять какой-то угол, фонарь, аптека; стоит телега высокая, белая, грязная, в какой возят лед; стоит лошадь. Не путайте, пожалуйста — при чем тут артиллерия? Николаевского кавалерийского, славного училища… «Ишь ты, — говорит он, заламывая на затылок шляпу и обнимая смирную каурую лошадиную морду с большим глазом, — ишь ты!» И гладит, и треплет ее, и целует в губу, и нюхает воздух, дующий ему в лицо из ее смирной ноздри. И она нюхает его, и так они нюхают друг друга. «Ишь ты, узнала, вспомнила, — говорит Бологовский, — не забыла». И щекой, щекой и всем лицом, он трется и обеими руками гладит.
Возница, внесший в кафе ледяной брус, возвращается, молча лезет на козлы, молча поднимает кнут. И лошадь уходит, равнодушно, покорно, оставляя Бологовского одного.
Таня стояла в темноте у самой двери, прижавшись к стене, когда он распахнул дверь и вошел; она сжимала обеими руками и прижимала к груди клубок бухарской шали (где и когда он видел эту шаль?).
— Тасенька, что ты? Будто испугать меня собралась, — сказал он и улыбнулся.
Она недоверчиво отодвинулась от него.
— Где ты был?
— Как где был? Работал. Лакействовал.
От него пахло вином, шляпа была примята на бок.
— Скажи мне, Тасенька…
Она крепко прижала к груди клубок шали, он приближался к ней, в глазах его светилась незнакомая ей глубина.
— Скажи, так ты меня не любишь? «Как-нибудь, как-нибудь»… думала… Ах ты! А я вот думал не как-нибудь, а так, что даже и выговорить страшно.
Он вплотную встал к ней, положил ей руки на плечи и грудью уперся ей в грудь.
— И вот, выходит, зря. Скажи мне, маленькая моя, который я?..