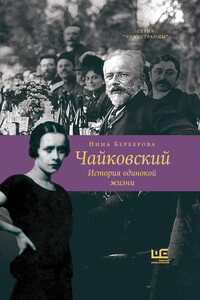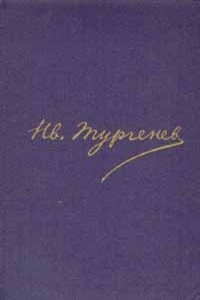«Он был милым, он мог быть милым», — повторила она себе и почувствовала, как она устала от всей этой недели, вспомнила о своем лице и слегка улыбнулась в сторону, но на нее не смотрели. В это время пришли еще двое (французы, кажется) и сели напротив нее. А она чувствовала, что не может оживиться, что ей хочется скорее поесть и уйти, что ей нужно остаться со своими мыслями. «Додумать. Выспаться. А завтра что? — мелькнуло в голове. — Завтра буду как Гуля, или еще что-нибудь… Служить пойду. В прислуги. Служат же люди. Вот лакеи бегают — служат». И она стала следить за одним из них — немолодым, высоким, лысым человеком в кургузой белой куртке, волосатыми руками что-то делающим над ее прибором. «Принес селянку. Осетрину накладывает».
— На левый стол грибки, — пробегая мимо, прошептал лакей помоложе, с картонным лицом, покачивая чистыми стаканами, ножками вверх.
— Даю, — отозвался лысый без голоса и, подставив Тане селянку, побежал куда-то, шатаясь. Она едва не потеряла его среди четырех других таких же. Она следила за ним со смутным чувством. Он показался опять, плавая в воздухе с узким блюдом маринованных грибков, откупорил вино в салфетке, двинул в дальний угол низкий стол на роликах с сырами. «Зачем живет такой человек?» — спросила она себя, а лакей опять замелькал туда и сюда, унося грязные тарелки, и вдруг Таня увидела, как в официантской, находившейся наискосок от нее, он что-то жадно сунул себе в рот с чужой тарелки. Она почувствовала отвращение.
«Зачем живет такой человек? Боже мой, зачем? Но зачем я сама живу? Для чего все это? — подумала она с жалостью и к нему, и к себе. — Зачем вообще живут люди? — Она с минуту соображала. — Для удовольствия. Да, это так. Люди живут для удовольствия. Но какое же в его жизни, в моей жизни удовольствие?»
— Осетринка, мадам, не понравилась? — спросил он почтительно, видя, что она не доела селянки.
— Н-нет, понравилась.
Он, плавно действуя волосатыми руками, унес селянку и еще что-то, и принес на мельхиоровом овальном блюде индюшечье крыло. Накладывал он, вытянувшись, действуя одними кистями рук.
— Прикажете красненького?
Она заказала полбутылки нюи. Один из мужчин, сидевших за соседним столиком, поднял на нее соловые, выпученные глаза. Мгновение — он что-то старался связать, вспомнить. «Гарсон! И сюда одну нюи», — крикнул он, поняв, наконец, что ему надо. Таня отвернулась.
«Зачем живет такой человек? — повторила она опять. — Ах Боже мой, где же он? Вот бежит с судком, качается. Какое у него лицо старое, усталое, какой череп странный. Он, наверное, много курит, зубы прокурил, сердце прокурил… А я зачем живу? Зачем стараюсь? Куда все это?.. Для чего завтра умру и как умру? Успокоюсь. Не буду больше завидовать, высчитывать. Остановлюсь».
С необъяснимой симметрией встала пожилая, а за ней молодая пара. Пузатый шассер на тонких, кривых ножках подал им одеться. Они ушли. Соседи требовали счет, вырывали друг у друга бумажники, опрокинули графин; наконец, главный, с соловыми глазами, заплатил. Таня долго держала во рту кусок мороженого персика и смотрела — не в лица их, а на то, как они оставляли на чай и как лысый, с переменившимся лицом, сгибаясь в пояснице, сгребал деньги и благодарил, поспешно отставляя стулья от их спин.
Потом он передал их метрдотелю, а метрдотель — шассеру, а шассер — уже на улице — шоферу такси, и у лакея в это время лицо опять стало прежним.
— Кофе, пожалуйста, — сказала Таня одними губами. Ну вот, и прошел этот обед, за который она сама заплатит. Все было очень вкусно. Как опустело кругом. Вот уже тот, с картонным лицом, и другой, помоложе, несутся с ворохом салфеток, и опять — стаканы, но грязные, и ножками вниз. Есть еще французы, кажется, но они теперь с дамами. Она проглядела, когда они пришли: нарядные, веселые, живучие. Вот они так — «для удовольствия»… Опять бежит этот высокий — зажигает спиртовку под фильтром.
— Народу у вас немного, — говорит Таня и сама не знает, зачем это говорит, — это хорошо, когда народу немного.
— Так точно. Это приятно-с.
Он отходит, спиртовка горит и перегоняет кофе. Он поспевает вовремя.