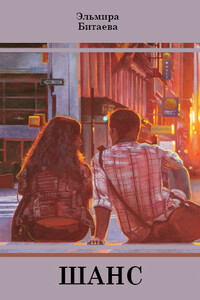И настал этот день. Мы въехали в наш дворик, я занес тяжеленный шарообразный груз на веранду, мы с женой на полу освободили его из-под липких лент, разложили во всю длину и ширину… и от обиды даже не нашли сил переглянуться.
Во что же превратили наш тулуп? Одна пола была изжевана то ли коровой, то ли собакой… другая – в черном мазуте, наверное, вытирали цепи или движок мотоцикла… От овчины мерзко пахло бензином и чем-то кислым вроде рассола…
Молча я собрал мохнатое чудовище в комок и, наступая то на рукав, то на уголок полы, потащил вниз – на воздух, на ветер. Сияло яркое февральское солнце. Синие тени змеились на снегу. Я повесил тулуп мохнатой изнанкой наружу на штакетник и жалобно обернулся жене:
– Палкой его побить от пыли?..
– Можно.
Мы нашли две жердочки в дровах и принялись колотить по гулкому тулупу. В воздухе вспыхнули пылинки и волоски. Но чище от наших ударов тулуп, конечно, не становился.
Что делать? Запах бензина, может быть, выветрится. Но мазутная-то грязь, но пятна желтой жижи… Попробовать постирать? Среди зимы?
– Может, в баню затащим… и мылом?
– Погоди, жена.
А это что? Тулуп еще и прорезан, то ли ножом, то ли ножницами… в двух, нет, в трех местах… Рукав – так прямо до локтя распорот…
Зачем?! Что за люди! А башлык, башлык оторван наполовину… это же какую силу надо приложить – не простыми нитками сшивали работу скорняки, а просмоленными…
– Его и жгли, – показала жена на съежившиеся кудельки шерсти под левой мышкой.
Хотелось плакать. Хотелось кричать громовым голосом: что творите, безродные твари?
Нет, его более не отчистить. К жизни не вернуть. Он побывал под чужими людьми.
Его надо куда-то деть, с глаз долой…
Ты ведь, отец, тоже был брезгливым. Ты рассказывал: когда в пустынях
Монголии, среди безводья и грязи, стояла в сорок пятом ваша дивизия, переброшенная с Украины для войны с Японией, вы, когда ели хлеб, выбрасывали корочки, за которые держались, – чтобы не заболеть.
Да что там про антисанитарию?! Ты с негодяями не здоровался. В нашей деревне был вор Андрей, он шел по улице, с улыбкой раскинув руки.
"Ты фронтовик, я фронтовик". И трудно было от него увернуться. И все равно ты умудрялся, делал вид, что рассердился на небо – почему нет дождя!.. – или копейку в траве увидел и захотел ее поднять: бедные, а разбрасываемся. У тебя всегда была с собой на этот случай копейка…
А я?.. Мне звонит человек, писавший на меня доносы до революции
1991 года, да и позже, в смутные годы, сделавший много бед мне и моим друзьям… а теперь звонит как ни в чем не бывало:
– Старина, надо бы срочно нам с тобой обсудить проблемы становления нынешнего гражданского общества. Я, кстати, поддерживаю СПС.
Каково?!
– Я тебя, с твоего позволения, – продолжает он звонким голоском вечного комсомольца, – буду ждать в библиотеке в отделе искусств. -
Значит, желает засветиться вместе со мной перед девицами, которые ко мне хорошо относятся!
– Как ты думаешь, кофе у них найдется или взять?
Я не могу собраться с мыслями. Что ему ответить? "Пошел вон"? Или сослаться на болезнь… да уж стыдно, я под этим предлогом миновал участия в нескольких сборищах праздных настойчивых людей… а ведь там были и мои друзья…
– Я сам куплю кофе, – продолжает он, – или зеленого чаю взять?
Наконец я бормочу:
– Простите… прости… я… ну, хорошо… – В конце концов, интересно, что он может предложить для становления гражданского общества.
И еду в библиотеку, и жму протянутую мне быстро, как финку в живот, руку, и сажусь за столик против этого плотного, словно в бронежилете, господина, и жалко улыбаюсь девицам, которые нам наливают кофе…
Прости, отец. Ты бы уронил наземь свою копейку, покраснел бы, подобрал ее и пошел прочь. Или поднялся и насупился: "Есть вещи серьезнее наших разговоров. У меня скот мерзнет в хлевах… у меня кормов нету, поеду покупать у соседей…"
Так бы ты сказал и ушел.
А я продолжаю кивать, сидя в библиотеке, и кисло улыбаться. А у этого господина привычка – после каждой мысли, с которой я соглашаюсь (есть мысли, с которыми невозможно не согласиться, если даже они исходят от негодяя), он тут же тычет мне короткопалую руку, чтобы я пожал ее…