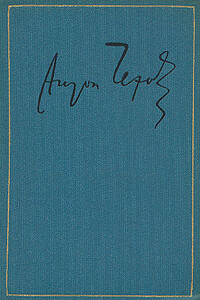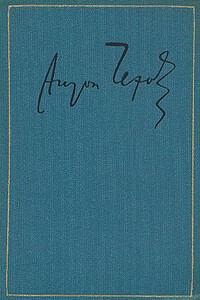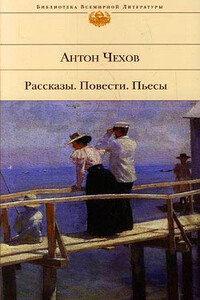Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.
– Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом? – сказал он плачущим голосом, разводя руками. – Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжищи туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково! Говорю ему, а он – толкач толкачом и только глазами хлопает! Повесить мало!
Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.
– Ну, дай бог… дай бог… – забормотал он. – Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад… Спасибо.
Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия.
Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями – и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо.
Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.
В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело.
Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песоцким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели; иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову на бок.
Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня – сопрано, один из барышень – контральто и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага.[56] Коврин вслушивался в слова – они были русские – и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон.
– Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда, – сказал он. – Не помню, вычитал ли я ее откуда или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии… За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Мидии, то на Дальнем Севере… Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе… По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня – завтра.