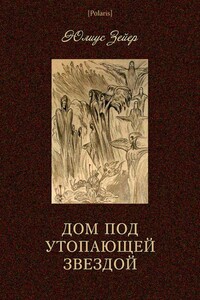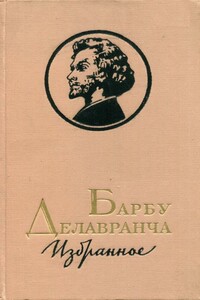Челкаш одумался… Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие — самолюбие бесшабашного удальца — бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.
— Замолол!.. — сказал он свирепо, — ты, может, думал, что я все это всерьез… Держи карман шире!
— Да чудак-человек!.. — снова оробел Гаврила. — Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, — много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающих.
— Садись, тюлень, в весла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.
Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.
Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней… Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, всю деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца — рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем… Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда…
Челкаш чувствовал себя овеянным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими… Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.
— Эй! а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила.
Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.
— Ишь черт занес!.. Гребни-ка погуще…
— Задумался? — улыбаясь, спросил Гаврила.
— Устал…
— Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? — Гаврила ткнул ногой в тюки.
— Нет… Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу… Н-да!
— Пять сотен?
— Не меньше.
— Это, тово, — сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..
— По крестьянству?
— Никак больше! Сейчас бы…
И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.
Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высовывавшемуся из воды.
Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.
— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш.
Лодка стукнулась носом о корпус барки.
— Спят, что ли, черти?.. — ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. — Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..
— Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлыканье.
— Ну, спускай трап!
— Калимера, Селкаш!
— Спускай трап, копченый дьявол! — взревел Челкаш.
— О, сердытий пришел сегодня… Элоу!
— Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к товарищу.
В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.