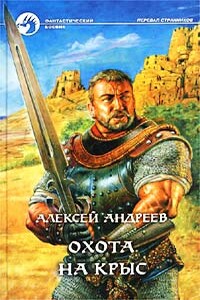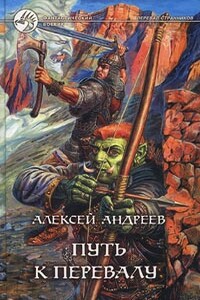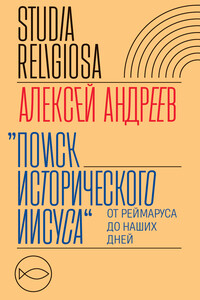Неплохо получаются у меня пейзажи с натуры. Люблю природу. Иногда удается почувствовать, чем живет она; слиться с ней - войти в нее и впустить ее в себя. Это жизнь, это всегда радость.
Натюрморт интересен по-своему. Мертвая природа. Долгое путешествие в лабиринте неживых, холодных предметов. Плутание, поиск чего-то теплого, светлого и - наконец - выход!
Словом, рисую я в свое удовольствие. В живописи я дилетант и вполне удовлетворен этим. Вот только одно кажется мне обидным - никак не выходят у меня портреты. Изображать кого-то по памяти не удается вообще, как будто черты лица не живут отдельно от человека. А если пытаюсь рисовать с натуры, получается что-то и вовсе странное, ни на кого не похожее...
Я рисую дядю Гришу. Он только из рейса - пыль и масло на его сапогах.
Прямо из коридора, не разуваясь, будто забыв, он уверенно и твердо прошел на кухню - его любимое место. Пригласил и меня следом. Я сел на стул у окна, спиной к оранжевому заходящему солнцу. Дядя Гриша хлебнул воды из-под крана, отер рукавом сигаретно-рыжие усы и сел на табурет, старый и ободранный. На стене рядом нарисовался контур его тени. Крупная капля сорвалась из медного крана, булькнула в раковину. Солнечные лучи начертили на дверях и стенах волнистые линии.
- Заходи, сосед. Расскажи что-нибудь интересненькое - ты на это мастак, - сказал мне дядя Гриша и, слегка прикрыв веки, уперся плечом в стену.
Я начинаю рассказывать одну из тех историй, что в большом количестве храню в своей памяти. Мои слова весело льются, дядя Гриша молчит, а я незаметно достаю блокнот, карандаш и пытаюсь рисовать.
Я рисую дядю Гришу большими, грубыми, шероховатыми штрихами. Линии ломанные, неровные. Это потому что лицо у него такое - скуластое, совсем не городское. Весь он такой, как будто прямо в степи из земли вырос, хоть уже, наверное, лет тридцать живет в городе, водит рефрижератор...
Мой собственный голос как-то странно действует на меня. Наверное, я не могу, как Цезарь, - два дела сразу... Слова звучат глуше и как бы со стороны, будто уже говорю не я, а кто-то другой, а я отвлекаюсь и упускаю линию разговора. Какие-то картины мелькают у меня перед глазами неясно, еле видно, как будто сквозь кальку. Я не успеваю ничего заметить, но, кажется, продолжаю что-то рисовать. Рука сама ведет карандаш, или карандаш ведет руку, а я даже не вижу листа...
Ну вот, в глазах снова посветлело - все прошло. Я смотрю в свой блокнот, но там нет даже лица. То, что задумывалось мной как усы, неожиданно вытянулось в длинные, ровные ряды аккуратных грядок. Глаза потеряли округлость и превратились в окна с отразившимися в них облаками и солнцем, а морщинки вокруг них - вне большие, скромные ставни. Брови и морщины лба стали крепким, но чуть-чуть грубым скатом крыши, потемневшим от ветров и дождей. А волосы неожиданно пегим клочком ковыльной степи - каких уж наверное, нет давно - разнеслись вдаль, где на круглом горизонте показалась речка.
В целом - славная картина, достойная реалиста-деревенщика. Того и гляди, из домика выйдет морщинистая старушка в темном платочке или мордатый голиаф-механизатор. Вот только непонятно, к чему вдруг я нарисовал все это, ведь не видал такого сроду, да и придумать не мог. Вырос я в городе, летом отдыхать ездил только на море - что такое деревня, знаю исключительно по кинофильмам. Странно...
Дядя Гриша внимательно смотрит на лист. Что-то неуловимое меняется в его лице, мелькают искры мгновенных воспоминаний.
- Ой, да это же Светлановка! Ну, точь-в-точь... Такой я ее и запомнил. А ты разве бывал там? Эх-хе-хей, а сколько лет я там не был... Как ты ее только нарисовал? И дом мой... бывший...
- А хотите, я вам подарю, - я вырываю лист из блокнота, протягиваю.
- Спасибо тебе. Родина все же...
Я рисую Зинаиду Петровну. Тетю Зину.
Она сидит на лавочке, у подъезда, и разговаривает с соседками. Их пятеро - кто-то следит за гуляющим внуком, кто-то вяжет шерстяной носок, кто-то просто отдыхает после трудового дня и рад возможности расслабить взгляд и не смотреть никуда.