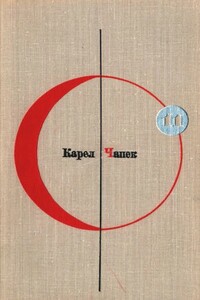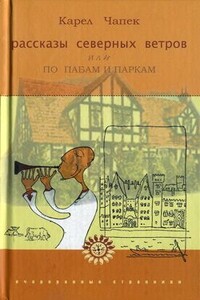В полночь полицейский обход приблизился к самому краю Коширже. Холодная мартовская ночь; небо покрыто тучами. Человек восемь полицейских и несколько штатских подходят к кирпичному заводу. Вот уж месяц, как печи его погасли, в нем пусто и страшно зияют сводчатые переходы. Однако и тут человеческое ложе: это колода, покрытая куском воняющего дегтем толя, — вот каково это ложе! В углу — маленькая поленница дров: стоит протянуть руку — ив кромешной тьме приветливо заиграет красный огонек. Но теперь тут все мертво: человеческие беды знают свои сезоны.
Проверка проходит мимо. Подходит к Шавлинову дому.
— Закуривайте, — советует комиссар. — Иначе задохнетесь.
Полицейский стучит в окно:
— Откройте.
Отпирает кашляющий сторож. Появление ночных визитеров нисколько его не удивляет.
— У вас есть кто?
— Виноват, не знаю.
Перед нами длинный коридор; тесный ряд дверей, будто в тюремные камеры.
Комиссар стучит в первую.
— Откройте. Полиция!
Слышится топот босых ног; дверь отворилась, выпустив теплую волну запахов. Пахнуло тряпьем, клопами, едой и какой-то гнилью — запахом нищеты.
— Войдем внутрь, — говорит комиссар. — Имеет смысл…
Женщина в рубашке, которая отворяла дверь, не спеша надевает нижнюю юбку.
— Кто у вас тут?
— Мои дети, сударь,
— Где ваш муж?
— Я вдова.
— А в постели кто?
— Моя сестра, сударь.
— А с ней кто лежит?
— Муж ее.
— Дайте воинский документ.
Можно пока осмотреться. Идти некуда: не успеешь шагнуть, как споткнешься о кучу тряпья. Вообще кажется, что тряпье здесь — главный предмет обстановки: тряпки висят на печи и на веревках, лежат в углу и прямо перед вами… Впрочем, нет: это груда детей; из ужасной кучи грязных тряпок на вас спокойно глядят шесть пар детских глаз. Наконец женщина нашла желтый листок. Комиссар светит на него.
— Все в порядке.
Да, да… все в порядке! Значит, ступайте к другим…
Мужчина приподнялся на постели.
— Что вам нужно? Почему не даете людям спать? Чего приперлись?
Комиссар не обращает внимания.
— У вас никого нет?
— Это все наши дети, сударь, — спешит вмешаться жена.
Их тут штук восемь — лежат прямо на полу, под одним одеялом. Видны только головы, и нелегко представить себе клубок тел под ним. И потом — у этой женщины чахотка, на нее страшно смотреть!
— Оставьте нас в покое! Кто вас звал? — злится муж.
— Да перестань, замолчи, — накидывается на него в безумной тревоге жена. — Не слушайте его, господа: это он просто так.
Комиссар слегка ворчит; впрочем, тут почти нет подозрений.
— Это хорошие жильцы, — кашляет сторож.
И еще одни хорошие жильцы — тут же рядом. Двое стариков, куча детей на полу, лохмотья и тьма тараканов. На постели из-под перинки видны молодые, красивые женские руки, прикрытые рассыпавшимися косами.
— Кто там лежит?
— Это наша дочь.
— А с ней кто?
— Да парень ее, сударь.
— Прописан здесь?
— Да, да, сударь, уже два года.
Молодая пара в постели и не думает просыпаться: спят себе, обнявшись.
— Ребенок чей?
— Ихний.
— Что с ним?
— Не знаю. Прихворнул что-то…
В общем, все в порядке.
Следующий номер.
— Так что — тоже хорошие жильцы, — объявляет сторож.
Открывает молодой человек, очень красивый.
Комиссар просунул голову в дверь. Женщина в постели, больше ничего особенного. Молодой человек провожает удаляющийся полицейский наряд ироническим взглядом. Под таким взглядом поневоле ссутулишься.
Дальше, дальше!
Плохие жильцы. Открывает женщина. Только увидала полицейских — в слезы. Показывает длинный нож: этим, мол, ножом муж только что хотел ее зарезать; потом забрал все деньги и в трактир.
— Кто у вас тут?
— Это мои дети, сударь.
— Сколько их?
— Семеро, сударь.
И опять — вонь, тараканы, жалкие, грязные лохмотья и среди них — детские головки. Господи, сколько этих детей повсюду!
— Теперь вы кое-что увидите, — говорит комиссар и стучит в новую дверь.
Отворяет женщина, но внутрь войти нельзя.