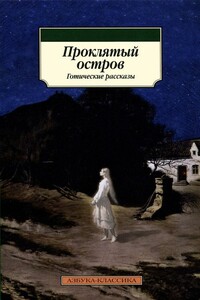— Наверно, лучше поправить немного одеяло… Как вы полагаете?
Все поползновения к истерике обычно отступают перед голосом здравого смысла. Мадам Джодска задохнулась от изумления, но повиновалась. Машинально она двинулась к кровати, дабы выполнить просьбу полковника, но краем глаза успела заметить, что он стряхнул что-то с шеи — как будто отмахивался от осы, москита или некоего ядовитого насекомого, которое хотело укусить его. Больше она ничего необычного не запомнила, ибо в спокойствии своем полковник не сделал более ни единого движения.
Окончив расправлять дрожавшими руками складки одеяла, гувернантка выпрямилась и с неожиданным испугом увидела, что Моника сидит в кровати с открытыми глазами.
— Ах, Джодска… вы здесь! — воскликнуло полусонное дитя невинным голоском. — И папа тоже!
— По… поправляю твое одеяло, дорогая, — пролепетала гувернантка, едва понимая, что говорит. — Ты должна спать. Я просто заглянула посмотреть… — И она бессознательно пробормотала еще несколько слов.
— И папа с вами! — восторженно повторила девочка, еще не проснувшаяся окончательно и не понимавшая, что происходит. — О! О! — И она порывисто протянула руки к воспитательнице.
Этот обмен репликами — хотя на описание его ушла целая минута — на самом деле занял вместе с сопутствующими действиями не более десяти секунд, ибо, пока гувернантка возилась с одеялом, полковник Мастерс продолжал что-то стряхивать с шеи. Больше мадам Джодска ничего не слышала, кроме судорожного вздоха за спиной, который внезапно пресекся. Но она заметила еще одну вещь, как клялась впоследствии своему варшавскому духовнику. Мадам Джодска клялась всеми святыми, что видела еще кое-что.
В минуты леденящего страха чувства реагируют на происходящее гораздо быстрее и точнее, чем разум; последнему же требуется достаточно долгое время, чтобы оценить поступающие в него сигналы. Оцепеневший мозг не сразу способен осмыслить ситуацию.
Поэтому мадам Джодска лишь через несколько мгновений смогла осознать картину, которая с полной отчетливостью представилась вдруг ее взору. Черная рука просунулась в раскрытое окно у кровати, схватила с пола маленький предмет, отброшенный полковником Мастерсом, и молниеносно исчезла в ночной тьме.
Похоже, никто, кроме гувернантки, этого не заметил. Все произошло со сверхъестественной быстротой.
— Через две минуты ты снова уснешь, милая Моника прошептал полковник Мастерс. — Я просто хотел убедится, что с тобой все в порядке… — Голос его был невероятно тихим и слабым.
Похолодев от ужаса, мадам Джодска смотрела и слушала.
— Ты хорошо себя чувствуешь, папа? Да? Мне снился страшный сон, но все уже кончилось.
— Прекрасно. Как никогда в жизни. Но все же я хочу, чтобы ты поскорее уснула. Давай я погашу этот дурацкий светильник. Уверен, именно он разбудил тебя.
Он задул лампу — вместе с дочкой, которая засмеялась счастливым сонным смехом и скоро затихла. Полковник Мастерс на цыпочках направился к двери, где его ждала мадам Джодска.
— Столько шума из ничего, — услышала она все тот же тихий слабый голос.
Потом, когда они закрыли дверь спальни и на мгновение остановились в темном коридоре, полковник сделал вдруг совершенно неожиданную вещь. Он обнял полячку, с силой прижал ее к себе, страстно поцеловал и тут же оттолкнул.
— Благослови вас Бог и спасибо, — тихо и сердито проговорил он. — Вы сделали все, что было в ваших силах. Вы отважно сражались. Но я получил то, что заслужил. Долгие годы я ожидал этого. — И полковник начал спускаться по лестнице, направляясь к своей спальне. На полпути он остановился и взглянул снизу вверх на замершую у перил гувернантку. — Скажите доктору, — хрипло прошептал несчастный, — что я принял снотворное… слишком большую дозу. — И полковник Мастерс ушел.
Примерно это и сказала мадам Джодска на следующее утро доктору, по срочному вызову прибывшему к постели, на которой лежал мертвый мужчина с распухшим почерневшим языком. Подобную историю она рассказала и на следствии, и пустая бутылка из-под сильного снотворного подтвердила правдивость ее показаний.
Моника же, слишком маленькая для того, чтобы понимать подлинное горе, далекое от показного и эгоистичного чувства личной утраты, ни разу — как ни странно — не хватилась любимой куклы, которая многие часы утешала ее своим присутствием и была ночью и днем задушевным другом одинокого ребенка. Игрушка, казалось, забыта, напрочь исторгнута из детской памяти, словно ее и не существовало. Когда разговор заходил о кукле, девочка смотрела непонимающим пустым взглядом. В этом отношении с грифельной доски ее памяти многое было стерто начисто. Куклам она предпочитала своих потрепанных плюшевых мишек.