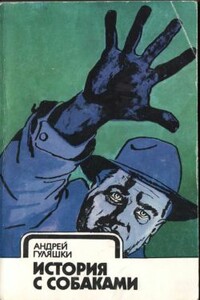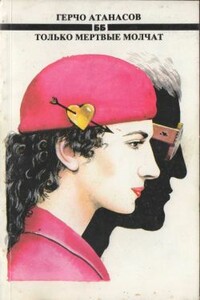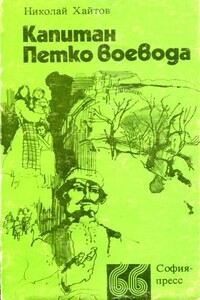Она замолчала, опустила веретено и вздохнула. Веретено покатилось по полу, и голос пчелы, которая, трепеща крылышками, висела над медовым цветком, оборвался как золотая нить.
Секул положил цигарку на подоконник. Нагнувшись, он с кряхтеньем стал развязывать навои царвулей. Снял и пыльную рубаху. Голый до пояса, он ждал, чтобы жена принесла ему чистую белую рубаху — переодеться, но та засмотрелась в окно и не двигалась с места. Секул почесал черное мускулистое плечо, нагнулся к топчану, взял грязную рубаху и снова надел ее. Босиком подошел к колыбели, нагнулся. Дитя спало, как рыбка-кротушка, сунув в рот пальчик. Малый человек, волосенки соломенные, точь-в-точь как у отца! Гордая улыбка пробежала по лицу каменотеса. Он протянул руку погладить ребенка, но не посмел, потому что ладонь у него была грубая и мозолистая. Оцарапаешь ребенка, он и проснется. Секул вернулся к топчану и опять сел, глядя на тонкие плечи жены, по которым как руно белого барана сбегали вниз и падали до пола шелковые волосы. «Зачем она говорит, что состарилась! Она такая красивая!» Он потянулся за цигаркой — та уже погасла.
В темноте под самым окном петух захлопал крыльями и хриплым голосом прокричал: «ку-ка-ре-ку!» Его голос наполнил комнату. Секулова жена вздрогнула, как струна, которой коснулся смычок. Ее истомленное сердце встрепенулось: вторые петухи поют. Заря встает. Скоро придет новый день.
— Давай ложиться. Нынче я сильно запоздал. Такой выдался день — неудачный. Целую телегу перевернул хорошо еще, что скотина уцелела. Пока обратно камень погрузил — смеркалось, а пока домой вернулся — и ночь до половины утекла. Иди ко мне, ляг на мою руку. Очень мне бывает хорошо, когда ты положишь голову вот сюда!
— Ты спи, Секул, спи. Я вижу, какой ты усталый. Весь день камни ворочал. А на меня не гляди. Я все равно глаз не сомкну, даже если лягу.
Секул разнежился:
— Видела бы ты, Струна, какой мост ставят мастера вниз по Тундже. Великое дело! Крепкий мост. Как тебе сказать; примерно, две телеги снопов могут разъехаться. А на том берегу есть родничок. Говорят, там фонтан сделают, вроде бы уж очень сладкая в нем вода. Эх, были бы у меня деньги, я бы сам сделал тот фонтан, чтобы на камне мое имя поставили, внизу написали год и наше село. Вырос бы сын и прочел бы мое имя. Хочешь, завтра я отведу тебя туда?
Струна подхватила, как во сне:
— На что мне ваш мост! Странные вы, люди! Знай дороги строите да мосты, всю жизнь с землей боретесь, пока смерть вас в нее не уложит! Ах, как мне тоскливо, Секул, как тоскливо! Нет, не понять тебе меня! — внезапно воскликнула Струна, подняла руки, взмахнула ими словно крыльями и глотнула слезы.
— Почему не понять, я тебя понимаю…
— Если понимаешь — отпусти меня на волю…
Секул замер.
— Куда?
— В Кушкундалево. Отдай мне рубашку! Скажи, где ты ее прячешь! Я знаю, ты ее в землю закопал. Прошу тебя, молю тебя, на колени перед тобой встану, ноги твои буду целовать — не держи меня больше. Не для меня такая жизнь. Тошно мне от бедности, тошно мне от всего. Прошлое воскресенье вышла и я на хоро, как все люди. Вижу, другие женщины вырядились в мониста, оделись в шелковые платья, шитые серебром да золотом, — пляшут да смеются. Мониста на них играют. А я на себя поглядела — хуже цыганки. Ах, господи, как я хочу опять полететь! Улетела бы я в лес, побегала бы по синим теням деревьев, по кривым козьим тропкам, через малиновую чащу. Помчалась бы я на русалочье озеро. Ты его знаешь, Секул, ты ведь помнишь его? Там я купалась с сестрами в тот вечер, когда ты меня нашел. Ты ходил по лесу искать пропавшего буйвола. А вместо буйвола нашел меня. Сначала схватил с берега мою рубашку и бросился бежать, потому что знал, что без рубашки я не русалка, просто девушка. Ты бежал, а я за тобой следом. Просила тебя: «Отдай рубашку!» Добежали мы до лугов. На траве лежала роса. Я шла, глотала слезы и дрожала от холода. А ты, Секул, снял свою антерию и закутал меня. Сели мы возле грушевого пня, и ты обнял меня, чтобы согреть. Ах, как сладки показались мне тогда человеческие объятия.