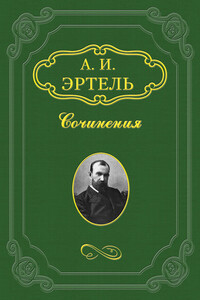Травля Иосифа началась с газетных фельетонов. Писал их Мотька Берман. Папа говорил мне, что все журналисты знали: во время блокады Мотьку, по броне оставшегося в Ленинграде, арестовали. Его жена была медсестрой в больнице, и его взяли с поличным, когда он продавал краденные медикаменты. По закону военного времени ему положен был расстрел. А он благополучно вышел из «Большого дома» и продолжал работать в газете, печатался под псевдонимами «Иван Дозорный» и «В. Медведев». Все, конечно, знали, что он такое. И всё–таки, когда появился этот первый его фельетон, Александр Иванович решил усовестить его. Он рассказывал это отцу, приехав к нам на Щемиловку, где мы тогда жили — рабочую окраину Питера, приехал потому, что ему надо было поговорить с другом. И рассказал, как он пришел в редакцию «Вечерки», прошел к Берману и говорит: «Мотя, почему ты травишь моего сына? Ты что не понимаешь, чем это пахнет? Ты же еврей!» Пока он говорил, Берман, не подымая головы, не глядя на него перебирал какие–то бумажки на столе, но вдруг гордо распрямился и сказал: «Да, Саша, я — еврей. Но я тот еврей, который нужен. А твой сын никому не нужен». Отец стал убеждать Александра Ивановича в необходимости немедленно написать письмо Хрущёву, Александр Иванович скептически отнеся к этой идеи, но папа кричал: «Глупости! Надо спасать парня!», захлопнул дверь комнаты и застучал по клавишам машинки. Потом дверь распахнулась, папа позвал меня, и Мишу, и маму. В руках у него был свежий машинописный лист, и он стал читать.
Очень выразительно и очень проникновенно. Дословно я запомнила только первую фразу: «Уважаемый Никита Сергеевич! Я, человек прошедший всю войну с лейкой и автоматом, сейчас обращаюсь к вам не как к главе нашего государства, но как к отцу, потерявшему на войне сына.» Дальше всё сводилось к тому, что сын адресата может быть и заблудился, но не потерян окончательно, и мы, отцы, то есть Александр Иванович и Никита Сергеевич — не должны терять веры в возможность вернуть его на единственно правильный путь, но это требует кропотливой работы, а бессмысленная жестокая травля только озлобит парня… И всё в таком духе. Почему–то мы слушали это, стоя в ряд — все и мама тоже. И отец читал, стоя перед нами. Закончил, сложил листок и протянул его Александру Ивановичу: «Ну, вот, Саша, завтра же отправь!»
Тот сделал шаг вперед, взял листок из рук отца и сказал: «Изя, ты очень хорошо пишешь. Просто замечательно. И читаешь очень хорошо. Только я никогда не отправлю это письмо» — и пока говорил, он медленно и аккуратно рвал папину писанину на четыре части.
«Ну, не знаю, — сокрушенно развел руками отец — Ну, не знаю, но надо же спасать парня…»
Парня спасти не удалось никому и именно из–за этой истории на нашей зимней даче. Прослышав об измене, он ринулся из Москвы в Ленинград, стал носится по городу, искать встречи, а на него свирепая охота гебешников, настоящий гон. И был слушок, что явился к нему Дима собственной персоной и так прямо и заявил: «Отныне заботу о судьбе Марины я беру на себя». Одно слово — поэт.
Хотя впрочем, может и не достоверный слушок. А может, Иосиф после этого и порезал себе вены. Нам Белочка позвонила, жена Пизи Лебедева, красавица, безотказная всеутешительница, но тут как раз осечка вышла: она пошла дверь открывать, а за ней подскочил к дверям её свекор, довольно–таки бесноватый мужчина и, увидев стоящего на пороге Иосифа, сходу стал орать: «В семейный дом! Замужняя женщина! В безобразном виде!» Белочка не успела слова вымолвить, как Иосиф испарился, как в воздухе растаял. Но она все–таки заметила на запястьях у него эти ужасные бинты.
И вообще, говорит, вид у него был безумный. «Я, говорит, думаю, его надо найти». Миша сразу перезвонил Петрову. Договорились, что мы ловим такси и к нему, а уж там на его «москвиче» отправимся на поиски. Но пока мы ехали, Иосиф сам позвонил Петруше. Из уличного автомата. Тот велел ему стоять на месте, ждать нас.
Белый он был, аж какая–то голубизна проступала. И от этого особенно в глаза бросалась рыжесть и веснушки. И бинты на запястьях подчеркивали кургузость пиджачка. Встрепанная, подраненная птица. И чувствовалось: одно неверное слово, не точный жест — сорвется с места, и только мы его и видели. Но я не даром пожизненно влюблена в Михаила Петровича Петрова — он человек точных поступков и точных слов. И точных наук.