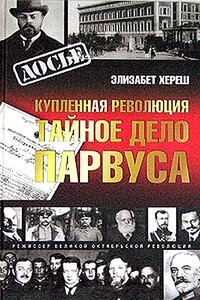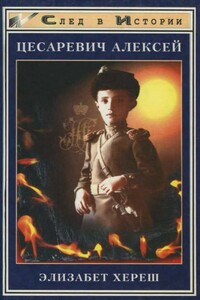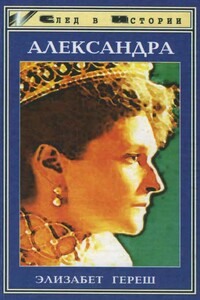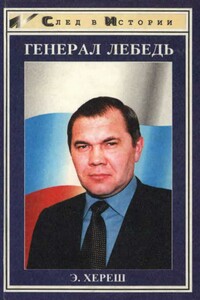Как бы Распутин ни удивлялся такому сочетанию религиозного поклонения и сексуальной распущенности, это, все же, полностью соответствует его природе. Он долго пытался бороться с «дьяволом» (как он называет свои плотские влечения), мешающим ему во время молитв или при попытках сосредоточиться в состоянии медитации, о чем он позже признается в своих воспоминаниях об этом времени. Теперь он чувствует себя вправе уступать своим потребностям, что ему доставляет удовольствие и позволяют возможности. В своем «Жизнеописании» Распутин позже чистосердечно расскажет, как во время его последующих странствий поклонницы следовали за ним по «пути к богу», присоединяясь к нему по дороге.
Дочь Распутина объясняет стремление отца к истинной религии аскетизмом и одновременно пытается объяснить его распутство философией индусов. Исходя из нее, локализованные в спинном мозге нервные стволы по пути к состоянию медитации должны пройти через центры, отвечающие за основные жизненно важные функции. Поэтому только преодолев потребности, в том числе сексуальные, человек может подготовить сознание к духовной концентрации.
Но если не можешь или не хочешь поддаться физическим потребностям, то только под руководством гуру можно и без удовлетворения низменных желаний освободиться от них и достичь состояния медитации и отрыва от собственного «Я». Но такая помощь Распутину не подвернулась, посему ему оставалось только через удовлетворение собственных инстинктов достигать концентрации тех состояний, к которым он стремился — медитации и общению с Богом.
Многое свидетельствует в пользу того, что после первой встречи с сектой «хлыстов», как ее называют в России, Распутину, очевидно, пришлась по вкусу их основная идея «любви» и «служения Богу» в естественном соединении. Но то, что секта все же не стала для Распутина заменой религии, очень скоро становится очевидным, а именно когда он во время этого, длившегося несколько месяцев, паломничества, побывал еще на одном «богослужении».
На этот раз собравшиеся с самого начала были безо всякой одежды. «Проповедник» даже не начал «богослужение» с молитвы. Вместо этого он из всех присутствующих выбрал в качестве «жертвы» самую хорошенькую прихожанку — в их кругу они по аналогии с «братьями» назывались «сестрами». Глава секты налил ей в пупок церковного вина, чтобы потом выпить его оттуда. Затем, прежде чем начать сексуальные действия с избранной им «сестрой», произнес молитву Господу. Вскоре сборище превратилось в оргию, избежать участия в которой Распутин не мог.
Но когда он покидал «черную мессу», ее ритуалы, очевидно, установленные в соответствии с индивидуальным толкованием религиозных канонов так называемым «проповедником», выполняющим обязанности старшего группы, все же заставили Распутина усомниться в том, можно ли в связи с такими извращениями назвать секту религиозной общиной.
Сектантство в России имеет свою историю. Его прошлое объясняет, какое значение имеет церковь для каждого человека в отдельности и для русского менталитета в целом. Возникновение сект обычно являлось симптомом кризиса церкви, что вызывало неуверенность у паствы.
Россия приняла свое вероисповедание в X веке по образцу Византии, унаследовав греческие обряды. Если верить легенде, то выбор пал именно на них, поскольку католическая церковь казалась слишком суровой, почти спартанской, мусульманская вера была неприемлема для русского народа из-за запрета на алкоголь, и, наконец, иудейская вера не могла быть признана государственной религией из-за недостаточной репрезентативности ее диаспоры. Фактически Великий князь Владимир хотел ввести православие как государственную религию, подражая Византии.
Русская церковь оставалась в подчинении патриархата Византии вплоть до падения Византийской империи в 1453 году. Одновременно с отделением от него и расцветом Московского государства происходили и самобытное развитие, и русификация православной церкви. В это время в ней и начались первые разногласия.
Уже тогда наметился первый внутренний раскол на два течения. «Иосифляне», названные так по имени настоятеля Волотского монастыря, выступали за слияние церкви и государства и видели задачу церкви в упрочении и развитии ее богатства как символа власти. Иной точки зрения придерживались «нестяжатели», знаковой фигурой которых стал отшельник Нил Сорский, выступавший за раздел имущества церкви между бедными и за отделение от государственной власти, «чтобы ни один церковный пастырь не посмел дрожать перед ней».