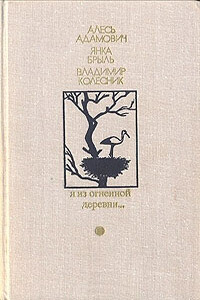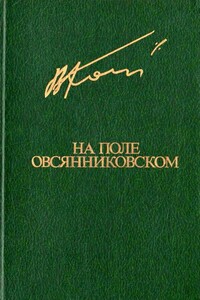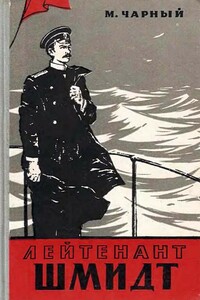— Вчера вечером здорово поддали, — похвастался он.
Мамия насторожился.
— Едва ты успел уйти, как я заглянул в контору. Ну, Бучуния и привязался ко мне, затащил на мельницу, и трахнули мы по четверти.
— Бучунию уже выпустили? — спросил Чичико.
— Выпустили.
— Чье вино было? — заинтересовался Мамия.
— Меки.
— У Меки отличное винцо.
— Немного кисловато.
— И мы неплохо нализались. Бригадир пригласил.
— Бучуния тоже не скупился, едва до дому добрался, — засмеялся Сандро.
— Образумился все-таки парень? — спросил Мамия.
— После женитьбы, кажется, в норму вошел.
— Женщина всем впрок. — Мамия осклабился.
— Вот и я твержу, притащите к Бахве восемнадцатилетнюю, через пару дней вскочит как миленький, — захохотал Сандро.
— Пусть ваши враги так же вскочат, как он, — тихо вставила Тебронэ и вздохнула.
— Как он, не полегчало?
— Всю ночь глаз не сомкнул. К утру успокоился. Уснул, кажется.
— Не беспокойтесь, все обойдется.
— Пасха сегодня, Сандро. Загляни к обеду. — Мамия подмигнул Сандро.
— Мне тутовник надо подрезать. Кончу и забегу.
— Ты ведь не откажешься от телячьих шашлыков?
— Иф! Куда там! Теленок отличный.
Сандро посмотрел на тушу.
— Набрал жирку… Белый, чисто снег, — с восторгом похлопал по туше Мамия и ухмыльнулся, безмерно довольный похвалой.
— Хорош, ничего не скажешь.
— Да, неплох. Значит, жду тебя, Сандро!
— Приду.
— Чичико, сынок, ты собираешься на кладбище?
— Да, тетя. Уложи снедь в авоську.
Вот показалось и кладбище, обнесенное каменной стеной. Издали оно похоже на густой остров леса. Когда-то его покой страшил Чичико. Этот куцый клочок земли, сумрачный от теней древних лип, представлялся ему чем-то непостижимым и таящим опасность, словно неведомая страна, находящаяся где-то за тридевять земель и населенная чужими людьми. Ведь тогда Чичико не знал ни одного из тех, что покоились под тяжестью, могильной земли. Правда, некоторых он раньше видел, о других кое-что слышал, но все это как-то проходило мимо его сознания. Кроме мелких случайных воспоминаний или незначительных случаев, в голове не хранилось ничего. Как-то Тебронэ взяла с собой Чичико на похороны соседа, умершего молодым. Гроб почему-то стоял не в комнате, а посреди двора перед домом. Лето выдалось жаркое. Сидевшие у гроба женщины громко причитали и отгоняли ольховыми прутьями мух. Мухи садились на лицо покойника, ползли по нему, забирались в нос и уши. На нем были новые импортные туфли. Все внимание маленького Чичико приковалось к этим мухам, ползающим по восковому лицу, к красивым туфлям, которые особенно запомнились ему. Может быть, он тогда жалел, что их, ни разу не надеванных, закопают в землю?
Или вот еще один случай. У другого соседа умер сын. Чичико помнил, как однажды этот парень мыл в речке коня. Вот и все. Только и запомнилось: конь по грудь в воде, и мускулистый юноша, поливающий мутной водой круп коня. Разумеется, Чичико слышал разговоры о том, что кто-то избил этого парня, он стал харкать кровью да так и не поправился. Но сколько бы Чичико ни вспоминал о нем, перед глазами вставало лишь одно: мутная речушка, конь с набухшими, очевидно, от старости ноздрями и голый веселый юноша с густыми волосами.
Или взять Гиви, сверстника Чичико, отданного родителями в «ремеслуху». Помимо Гиви, в семье было еще четверо ртов, а война только кончилась, все жили впроголодь, где тут было прокормить такую ораву? Через год Гиви вернулся домой. Тринадцатилетний подросток подхватил плеврит, перешедший в чахотку. В месяц осунулся, пожелтел как свеча этот неуклюжий, застенчивый, похожий на медвежонка, толстяк. С самых детских лет отличался он необычайной стеснительностью, вечно ходил с опущенной головой и страшно робел, когда с ним заговаривали взрослые. На первый взгляд он казался крепким, да организм не смог справиться с болезнью. Уход ему был необходим, усиленное питание, а родителям приходилось считать каждый кусок. Целыми днями лежал Гиви на балконе, а когда ребята собирались играть в мяч, он, бывало, спускался и просился в команду — никак не мог смириться со своей болезнью. Чичико легко отбирал у него мяч, отталкивал. Жалел ли он Гиви? Нет, не жалел. Хотя знал от старших, что тот обречен, но все равно не испытывал ни капли жалости и даже всячески сторонился его. Избегал потому, что тот носил в себе что-то непонятное, страшное, опасное, а вовсе не из-за боязни заразиться, хотя Бахва и предостерегал его. Нет! Ужас той обреченности, которая стала судьбой Гиви, был непостижимым для детского ума, но именно эта непостижимость — невидимая и неизвестная — заставляла Чичико сторониться товарища.