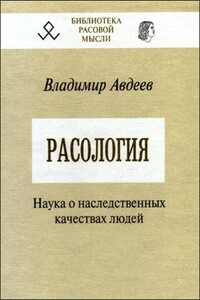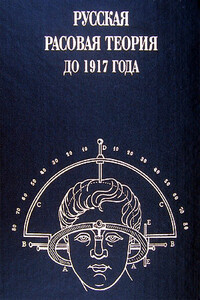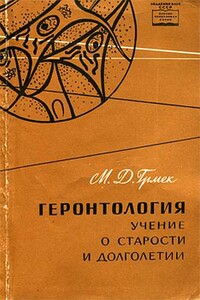МИФ о «едином человечестве», в котором «все люди братья» — абстрактно-гуманистический с философской точки зрения и либерально-демократический с политической — окончательно оформился в своей светской модификации в 1960-е годы. Тому, как ни странно, более всего способствовали доминанты текущей политики обеих противоборствующих сверхдержав: США и СССР. В Америке главным политическим событием десятилетия, определившим всю ее современную трагическую историю, было принятие «Иммиграционного Акта» (1965), после чего страну захлестнуло цветное население третьего мира. Этому самоубийственному решению предшествовала многолетняя «промывка мозгов» и затем оно сопровождалось не менее массированной и основательной пропагандой, призванной нивелировать в глазах американцев очевидные и чудовищные негативные последствия произошедшего.[138] Рикошетом эта пропаганда уходила и в Западную Европу, подготавливая соответствующие перемены, и даже в страны социализма. А в Советском Союзе, во-первых, еще продолжалась оттепель (окончательно черту под ней подвело лишь наше вторжение в Чехословакию в 1968 году), а во-вторых, активизировалась целенаправленная политика разрушения колониальной системы и натравливания стран третьего мира на страны блока НАТО — и соответственно всестороняя апология интересов многоразличных цветных народов. Идеология оттепели (абстрактный гуманизм плюс оглядка на Запад, на США, где все, якобы, делается «как у людей», в отличие от нас) в данном конкретном случае не противоречила официальной идеологии. Так получилось, что «борьба с расизмом» на каком-то этапе стала не только куском хлеба для штатных партийных пропагандистов, но и как бы нравственным долгом среднестатистического советского интеллигента, одним из его «культурных кодов».
Среди главных памятников этого странного идейного сплава расхожих интеллигентских умонастроений того времени с официозной «моралью советского человека» — книга историка Н. Я. Эйдельмана «Ищу предка»,[139] центральное место в которой занимают шесть вопросов, заданные читателю, что называется, «в лоб». Эйдельмана как ученого вообще выгодно отличало умение формулировать вопросы, прицельно попадающие в главный нерв той или проблемы. А хорошо поставленный вопрос, как известно, уже наполовину решен. То есть, он в значительной мере является вопросом риторическим, подразумевающим готовый ответ. Именно так обстоит дело и в данном случае: ответы на эйдельмановские вопросы с первого взгляда кажутся сами собою разумеющимися. Ну, а чтобы уж совсем исключить разночтение, автор предпослал им свое резюме: «Главный научный довод против расизма заключается в том, что все современное человечество, без сомнения, — один вид. По-видимому, тот самый вид, который сформировался в Средиземноморье и Передней Азии несколько десятков тысяч лет назад».[140]
Историк поспешил с вердиктом. Дело, как мы убедились, обстоит как раз наоборот: научных доводов против расизма вообще не существует! Есть изначальные расы, и есть область их смешения, впервые происходившего в условиях «кто — кого» как раз в указанном Эйдельманом регионе. При этом смесь — именно и только в подобных областях! — так и остается смесью, обретая новую расовую идентичность. А чистые расы, каждая в своей зоне, прошли через реверсию, практически полностью регенерировались, расстались в массе с привнесенными метисацией признаками и остались в итоге чистыми в целом расами. Стремление Эйдельмана как яркого представителя смешанной, вторичной расы, видеть весь мир вокруг подобным себе объяснимо, но неприемлемо для научного ума.
Между тем Эйдельман продолжает готовить читателя к «правильному» ответу: «Трудно сторонникам теории — „разные расы — разные виды“ — объяснить, почему у всех людей одинаковое строение борозд мозга (мы уже знаем, что это не так. — Авторы), одинаковое число долей легкого и печени. Зато, предположив, что все расы — один вид, мы сможем все легко понять… Доводы, доказательства, наука… А расовые предрассудки живы и крепки.
И самый распространенный их вид — скрытый, мягкий, стыдливый.