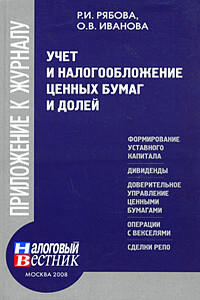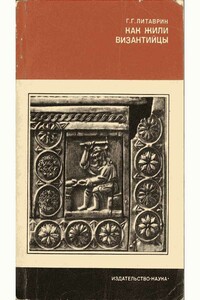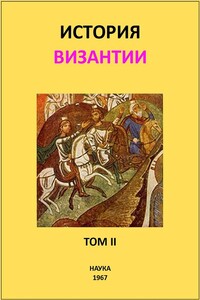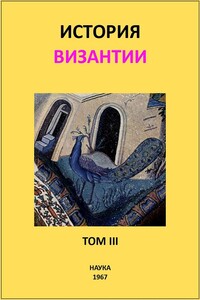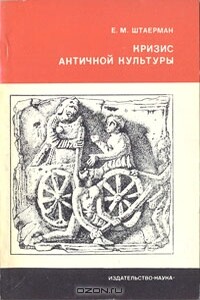Отмеченное обстоятельство не могло не отразиться на социальной и общественной структуре раннефеодальных хорватских и сербских княжеств: процесс классообразования, как и оформления центрального аппарата власти, совершался медленными темпами. Долго отсутствовали и строго установленные нормы и порядок взимания податей и пошлин с населения, как и набора общегосударственного войска из ополченцев-общинников. Со временем в X–XI вв. на территории хорватских княжеств все более отчетливо проявлялось типологическое сходство развития и феодализма, и раннефеодальной государственности не с балканским, а с центральноевропейским регионом. Поэтому, признавая в целом справедливым неоднократно делавшееся в советской науке заключение, что результаты синтеза институтов «варварского» и восточноримского общества проявлялись на Балканском полуострове все менее явственно в направлении от южнобалканских (греческих) районов к северу и северо-западу региона, мы считаем возможным утверждать, что хорватский район следует вообще относить в целом не к балканскому, а к центрально-европейскому региону. Исключение на раннем этапе (до IX–X вв.) составляли только далматинские города, в которых континуитет позднеримских традиций проявился более отчетливо. Однако и здесь в XII–XIII вв. конституировались такие формы общественно-политической жизни, которые роднят этот район типологически не с балканским, а с италийским регионом. Даже в пределах Хорватского государства, в которое временами входили северодалматинские города, они оставались чужеродной общественной структурой и, как правило, располагали автономией во внутренних делах, а порой и в определении своего политического курса в отношении соседних городов и государств. В существенной мере тот же путь развития был присущ и южнодалматинским городам, входившим в пределы сербских княжеств. Именно в этом районе сформировался наиболее известный в средние века в Далмации город-республика Дубровник, хотя в ряде городов Южной Далмации (в отличие от Северной), власть правителей сербских государств была временами гораздо более эффективной.
Крайняя скудость сведений о начальном этапе истории образовавшихся в середине IX в. сербских княжеств не предоставляет возможности вообще поставить относительно сербских территорий проблему синтеза. Лишь по сопоставлению с положением дел в Хорватии и соседней Болгарии можно, по-видимому, заключить, что типологически Сербия принадлежала все-таки к балканскому варианту генезиса феодализма и раннефеодальной государственности. Это обусловили следующие факторы: более заметное, чем в хорватских землях, сохранение во внутренних районах при расселении славян местного автохтонного населения; гораздо более эффективное и продолжительное, чем в Хорватии, византийское господство над значительными сербскими территориями (в начале второй половины IX в., в XI и XII вв.), а следовательно, и более тесные связи сербов с населением византийских провинций; несколько раз устанавливавшаяся в конце IX и в X в. на обширной части сербских земель власть Болгарского государства, которая одновременно распространялась и на византийские территории.
Что касается территории Болгарского государства, то в данном случае, видимо, нужно различать несколько периодов еще до эпохи христианизации. В период от заселения Мисии и Малой Скифии славянами до прихода воинства Аспаруха последствия синтеза в производственной сфере, несмотря на тонкий слой уцелевших здесь автохтонов, все-таки должны были ощущаться в первую очередь в этом районе с его эллинизированными приморскими городами, хотя и в меньшей степени, чем в Македонии и Северной Фракии; должны были сказаться также предшествующие длительные контакты славян левобережья Нижнего Дуная с византийцами. Переход славянских союзов на статус федератов империи и прочные позиции славянской племенной знати, с которой пришлось серьезно считаться победителю Константина IV Аспаруху, свидетельствует о том, что и в социально-общественной сфере забалканские славяне к концу VII в. добились значительного прогресса, что вожди союзно-племенных объединений уже обладали большой властью и вступали в договорные отношения с протоболгарами (а до того с империей) от имени всех своих подданных. О периоде преобладания протоболгар в органах центральной власти (до второй четверти IX в.) мы скажем особо ниже, заметив только, что и в это время (несмотря на осложнившее картину вторжение протоболгар) процесс приспособления некоторых имперских форм общественной жизни не прекратился. Однако наиболее явственно непосредственное усвоение византийских институтов и на уровне официальной власти в провинциальной сельской местности, и в сфере совершенствования органов центрального управления началось со времени распространения болгарского господства на земли империи во Фракии и Македонии (с начала IX в.), и особенно со времени утверждения в стране христианства в качестве официальной религии. Включаемые в состав Болгарии имперские территории, на которых процесс развития феодализма и методы эксплуатации непосредственного производителя со стороны крупных собственников и центральной власти имели более зрелые формы, сохраняли свою прежнюю социально-общественную структуру и играли стимулирующую роль в развитии страны. Организованная по византийскому образцу христианская церковь стала в Болгарии, как и в империи, важным звеном в государственной системе в целом. По самой своей сути церковь была тесно связана со множеством других звеньев государственного аппарата и в центре, и в провинциях. Естественно поэтому, что христианизация предполагала некоторые изменения в организации государственной власти в соответствии с византийскими «образцами».