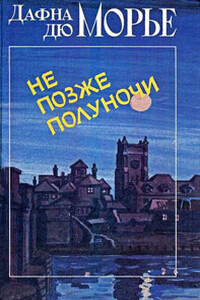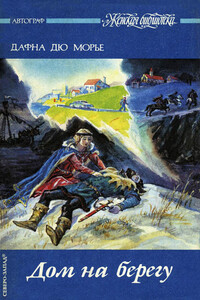И это еще не все. Вместо того чтобы скромно, не выпячиваясь, исполнять свои обязанности – как и пристало тому, кто никогда не смог бы заменить отсутствующего, кто находится здесь исключительно из милости и кого в лучшем случае терпят, отводя глаза и горестно вздыхая, – молодой человек имел наглость вообразить себя важной особой, которой позволено разоблачать и обвинять. И вот этот-то тщедушный, с простоватыми чертами лица, во всех отношениях недостойный заместитель занимал кафедру того викария, чей голос приводил в трепет тысячи людей, чей взгляд заставлял даже самых скрытных дам обращать взоры в сторону исповедален!
Первым делом, еще прежде, чем члены конгрегации успели погрузиться в собственные важные мысли, никому не известный молодой священник окинул их всех презрительным взглядом и невозмутимо, по пунктам, высказал все, что о них думал.
Говорят, что змеиный яд причиняет ужасную, нестерпимую боль, однако слова новоявленного проповедника оказались куда более ядовитыми, чем змеиное жало: они глубоко уязвляли души слушателей. Никогда еще под сводами Святого Суитина не раздавалось таких неприятных, шокирующих речей, как в те полчаса, пока длилась его проповедь. Чуть ли не каждое высказывание взывало к цензуре: по единодушному мнению присутствующих, проповедь преподобного Патрика Домби следовало вымарать от начала и до конца. И когда он отговорил, в церкви не осталось ни одного человека, который не залился бы румянцем и не прочистил бы горло по меньшей мере раз десять. Никто не смел даже взглянуть в лицо своему соседу по скамье. Не было ни одной туфли, которая не топнула бы в пол, ни одной перчатки, которую не разорвали бы надвое нервно теребившие ее руки.
Викарий предполагал отсутствовать шесть недель, и все описанное выше оказалось только прелюдией. А в то первое воскресное утро добродетельные и набожные прихожане церкви Святого Суитина высыпали на улицу переполошенные, как стадо испуганных гусей. Надо ли говорить, что через неделю они не пришли на службу и написали своему возлюбленному викарию гневную петицию.
Преподобный Джеймс Холлавей прочитал их послание, сидя на веранде очаровательного загородного дома в Девоншире, где он восстанавливал силы после инфлюэнцы.
Поначалу ситуация не показалась ему чрезвычайной. Он даже зачитал отрывок из письма хозяйке дома, прекрасной телесно и духовно герцогине Эттлборо.
– Видите, моя дорогая Нора, – начал преподобный, сопровождая свои слова весьма элегантным жестом, выражающим покорность судьбе. – Нельзя отлучиться даже на неделю: мои подопечные тут же начинают требовать, чтобы я вернулся. Как прикажете поступить?
Герцогиня склонилась над сидевшим в кресле священником и помахала над его головой платком – как веером.
– Вы совершенно о себе не думаете, Джим, – сказала она. – Вы уже готовы броситься назад и окончательно подорвать свое здоровье, лишь бы не оставлять приход в руках некомпетентного заместителя. Но я вам запрещаю это делать. Слышите? Вы мой пленник, и я вас никуда не отпущу. Вы еще очень слабы и нуждаетесь в присмотре.
Преподобный укоризненно покачал головой (этот жест она обожала) и нежно ей попенял:
– Вы меня ужасно балуете.
– Во всем, что касается здоровья, вы сущий ребенок, – продолжала герцогиня. – Возвращаться сейчас было бы самоубийством. Кстати, кто такой этот Патрик Домби?
Джеймс Холлавей презрительно пожал плечами:
– Некий выпускник Кембриджа, с прекрасными рекомендациями. Служил в Уайтчепеле, насколько мне известно. Подозреваю, что он разделяет все эти глупейшие социалистические идеи. Мне пришлось его взять, поскольку не было другого выбора. Вы ведь помните Смита, его предшественника? Он сейчас в санатории, вместе со своей женой. У бедняги туберкулез, и боюсь, что надежда на его выздоровление невелика.
Герцогиня протянула больному персик, который тому полагалось съедать каждое утро, и священник умиротворенно улыбнулся.
– Обещайте мне оставаться здесь до тех пор, пока ваше здоровье не поправится как следует, – потребовала она. – И пусть приход Святого Суитина позаботится о себе сам.