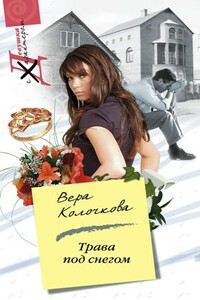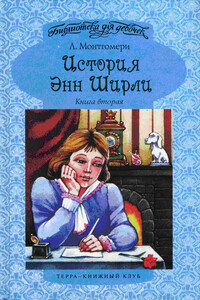К подъезду дома она уже бежала бегом – а вдруг опоздала, и Таечкины родственники уже приехали? Вдруг они позвонили в дверь, а им никто не открыл? Прыгая через две ступеньки, она бегом взлетела по лестнице на свой этаж. Никого, слава богу, под дверью не обнаружилось. Успела, значит.
Мельком взглянув на себя в зеркало в прихожей, она торопливо прошмыгнула по коридору, открыла дверь в Таечкину комнату.
– Таечка, я здесь! Ну, как ты? Скоро они уже приедут…
Старушка молчала. Руки ее по-прежнему были сложены на груди, ладонь в ладони. И лицо… Очень странное было у Таечки лицо.
Белое, почти ровное, будто ушли, разгладились все грубые пергаментные складки, уступив место выражению полного умиротворения. Не лицо, а лик. Очень красивое. Только странно, почему она молчит…
– Таечка, я здесь! – снова громко повторила Наташа, уже с дрожью в голосе. Потому что догадалась уже, что произошло, но не хотелось, не хотелось ей в это верить…
Осторожно подойдя к кровати, она протянула руку, дотронулась до Таечкиной ладони. И тут же руку отдернула, будто ожгло ее холодом смерти. Да, Таечка была мертва…
И тут же требовательно заверещал, заколошматился электронной музыкой дверной звонок, заставив ее страшно вздрогнуть. Повернувшись на деревянных ногах, она тяжко промаршировала к двери, открыла… Генрих и Мария, настоящие, не из телевизора, стояли перед ней, улыбались дрожащими лицами. По лестнице за их спинами, пыхтя, поднималась бабушка, тоже улыбалась. Потом произнесла громко, борясь с одышкой:
– Натка! Ну что ты застыла, как изваяние! Не держи гостей на пороге! Веди, веди их скорее к Таечке, не лупи глазами!
С трудом набрав в грудь воздуху, Наташа услышала будто со стороны прозвучавший свой вялый и виноватый, совершенно чужой голос:
– Да… Заходите… Заходите, конечно. Только Таечка… Извините, конечно, но она это… Вроде как умерла…
В день похорон с раннего утра прошел дождь. Потом небо расчистилось, июньское солнце вступило в свои права, торопливо наводя на городских улицах свой порядок. Мелкие лужицы на тротуарах быстро подсохли, газонная трава заиграла изумрудной отмытостью, презренно взирая на слипшиеся, забрызганные грязью комки тополиного пуха, совершенно неуместные на празднике горделивой городской чистоты.
Все утро Наташа потерянно бродила по квартире, не находя себе места в горестной человеческой суете. Временами ей казалось, что она проваливается куда-то, не видит ничего и не слышит, потом реальность происходящего вдруг возвращалась четко прорисованными картинками. Вот бабушка сидит на диване, обняв согбенную спину Марии, журчит ей что-то ласковое в закрытое ладонями лицо, успевая незаметно смахивать со щек свои слезы. Вот присмиревшая Тонечка сидит в кресле, сунув ладошки меж разбитых, покрывшихся тонкой коричневой корочкой коленок. Бабушка рассказала – она соседской коровы испугалась, побежала от нее и запнулась. После этого она и повела ее с той коровой знакомиться. Такой вот элемент воспитательного творчества проявила. Наверное, это и правильно. Она вообще большая умница, ее бабушка… Вот Генрих с Сашей торопливо перекусывают на кухне бутербродами, опаздывают куда-то. Похороны – дело горестное, конечно, но по формальности очень емкое и страшно бюрократическое, тут без суеты и торопливости не обойдешься…
– Натка, не ходи сомнамбулой, сбегай-ка лучше в магазин! – выдернула ее из потерянности бабушка коротким приказом. – Мне кажется, мы майонезу мало купили. С кладбища приедем, надо же будет салаты заправить. И еще чего-нибудь купи…
– Чего, бабушка?
– Ну, я не знаю… Хочется, чтоб Таечкин поминальный стол богатым был. Хотя все уж вроде купили…
– Доченька, пойдем со мной? – ласково позвала Тонечку Наташа, но та лишь головой коротко мотнула, отказываясь. А посидев немного, вдруг передумала, выползла из кресла, подошла к ней, дернула за руку: – Мам… А ты мне дашь в магазине денежку, я сама няне Таечке халвы куплю? Она очень халву любит, арахисовую, я всегда ей халвы приносила…
– Да? А я и не знала… Я никогда не знала, что любит Таечка. Пойдем, купим, конечно…
Мария, вдруг тяжко всхлипнув на вдохе, оторвала ладони от лица и потянулась обнять Тонечку, причитая слезным тихим голосом: