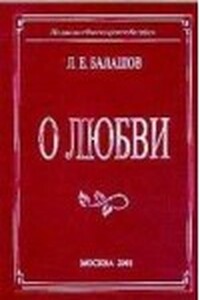Точно так же в более узкой общественно-политической области «важен не приход к власти нового класса, но то, что новое человечество, подобно всем другим „гештальтам“ истории, наполняет определенным смыслом властное пространство. Поэтому мы отказываемся видеть в рабочем представителя нового „общества“ и новой экономики. Рабочий есть либо ничто, либо нечто большее сравнительно с подобным определением; он является представителем определенного гештальта, действующего по собственным законам, следующего собственному призванию и причастного особой свободе <…> Жизнь рабочего либо станет автономной, будучи прямым выражением его бытия и тем самым господства, либо останется обычной попыткой урвать свою долю старых прав и пресных наслаждений ушедшей эпохи».
Здесь стоит отметить интересную транспозицию уровня, которую претерпевает столь избитый лозунг современной социальной идеологии, как право на труд. Кроме того, положительные моменты, отмеченные Юнгером, определяют границы концепции воли к власти, подчиняют волю понятиям бытия и гештальта и предполагают переход к принципу служения, благодаря которому рабочий становится единственно возможным наследником прусской этики долга, то есть этики, в которой стихийное мыслится укрощенным. Образно говоря, рабочий вылеплен из того же сырья, что и ницшеанский сверхчеловек, но в отличие от последнего он стремится преодолеть великий кризис ценностей посредством перехода от уровня бесформенного к уровню формы. В этом смысле можно даже говорить о наступлении «безмятежной анархии, тождественной строжайшему порядку; зачатки подобного состояния можно наблюдать на полях великих сражений и в гигантских городах, картины которых ознаменовали начало нашей эпохи». «Пройдя школу анархии, разрушения старых уз, [рабочий] должен осуществить свое право на свободу в новом времени, в новом пространстве, путем создания новой аристократии».
Из вышеизложенного нетрудно понять, что Юнгер поочередно рассматривает две различные области: сферу наличной действительности, которой он пытается дать свое истолкование, и область действительности становящейся, черты которой, как ему кажется, он предугадывает. Текущий же период описывается как переходная эпоха. Там, где речь идет о наличной действительности, процесс этого перехода имеет принудительный характер; новый тип, с одной стороны, претерпевает его, с другой, принимает его на себя и стремится сообразовать с ним собственную свободу, переходя от уровня «как оно есть», к тому, «как должно быть». В качестве одного из признаков новой свободы автор указывает «уверенность в причастности к сокровенным детородным силам времени; уверенность, которая чудесным образом подстегивает мысли и дела и благодаря которой свобода деятеля осознается как особое выражение необходимости. Это сознание, в котором линии судьбы и свободы скрещиваются в моменты исключительной опасности, является знаком того, что жизнь еще не утратила своей силы, и ощущает себя субъектом исторической власти и ответственности». Там, где возникает подобное чувство, «вторжение стихийных сил выглядит как наступление конца, в котором, однако, сокрыт переход к чему-то новому. Чем сильнее и безжалостнее пламя, в котором сгорает обветшавшая действительность, тем стремительнее, легче и решительнее будет новое наступление». Юнгер признает: «Мы живем в таких условиях, что, если не бросаться пустыми словами, довольно трудно понять, что сегодня вообще достойно желания». Поэтому «необходимо перейти ту точку, в которой более желанным покажется ничто, чем что бы то ни было, позволяющее в себе усомниться». «Выбор правильной позиции для индивида сегодня осложняется тем, что он находится на передовых рубежах борьбы и работы. Необходимо научиться удерживать эти рубежи, оставаясь в живых, будучи не только объектом, но и субъектом судьбы, постигая жизнь не только как царство необходимости, но и как пространство свободы… Как только человек осознает себя господином и субъектом новой свободы… независимо от обстоятельств, в которых приходит к нему это осознание, его состояние меняется коренным образом. В результате многое из того, что еще сегодня кажется желанным, мгновенно утрачивает свое значение». Автор добавляет: «Только со временем и исключительно благодаря поэтическому искусству нам удается уловить внутренний, бесспорный смысл поединка среди адского огня, прицельно изрыгаемого механизированными монстрами; точно так же нам трудно распознать отношения, связующие гештальт рабочего с миром работы, символом которого в условиях войны является огненный ландшафт». «То, что мы видим сегодня, это не окончательный порядок, но, скорее, хаос, за которым можно угадать великий закон», — говорит Юнгер. Этот трагический аспект нашего времени почти полностью ускользнул от многочисленных попыток его истолкования, которые учитывали исключительно материальные силы и столкновение интересов. «Сколько ума, сколько веры, сколько жертв расходуется в этих схватках; это зрелище поистине было бы невыносимым, если бы каждая из них не имела собственного смысла в рамках общей операции. Действительно, каждый удар, даже наносимый вслепую, подобен движению резца, который решительно высекает из бесформенной глыбы ту или иную черту лика нашего времени. Возросшие масштабы нужды и опасности, распад старых связей, лихорадочный характер любой деятельности постоянно увеличивают расстояние между одиночными позициями, вызывая у человека чувство затерянности в непроходимых дебрях идей, событий и интересов. Различные системы, пророчества и призывы к вере чем-то напоминают вспышки прожектора, который на мгновение высвечивает предмет, словно только для того, чтобы сразу же погрузить все в еще более глубокий мрак, усилить чувство неуверенности… Крайне поучительным сегодня является знакомство с так называемыми передовыми умами нашего времени; при этом более всего поражает та степень направленности и закономерности, которую, вопреки этим умам, сохраняет наше время».