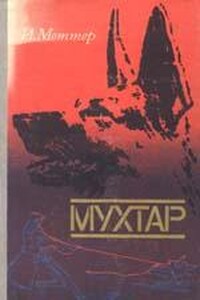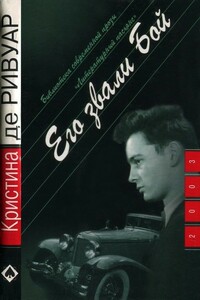С Сашей Белявским мы открыли курсы по подготовке в вуз.
Курсы были самоделковые: Саша уже учился на первом курсе филологического факультета, а меня уже в первый раз не приняли на медицинский. Вдвоем мы сколотили группу малоспособных абитуриентов и за небольшую плату натаскивали их по программе средней школы.
На мою долю пришлись точные науки, на Сашину — гуманитарные. Вот тогда-то я и сделал для себя важное педагогическое открытие: если ты чего-нибудь не понимаешь до конца, начни это преподавать. Объясняя своим ученикам математические правила и физические законы, решая с ними примеры и задачи, я изнемогал от скудости своих познаний. Однако внезапно меня осеняло. Это случалось в ту секунду, когда я и сам доходил до сути. И моя наивная радость узнавания приобретала магнетическую силу. Мои ученики превращались в моих сообщников. Быть может, запоздалый дикарь, додумавшийся до колеса, испытывал те же чувства.
Я калечил своих учеников напропалую, но они поступали в вузы, изумляя экзаменаторов необычностью методов рассуждения, граничивших с невежеством. Что касается меня самого, то каждую осень канцелярия медицинского института возвращала мои документы.
Путь к звездам высшего образования был закрыт для меня. Следовало круто изменить графу моего социального положения. Отец определил меня подручным монтера в частную электротехническую мастерскую.
Теперь я стал рабочим.
Хозяин мастерской, нэпман, брал подряды в государственных учреждениях. Два мастера-электрика с двумя подручными выполняли эти подряды. Таким образом, из нас из четырех выкачивалась прибавочная стоимость. Вероятно, она была очень невелика, ибо вся хозяйская мастерская помещалась в низкой, полутемной дворницкой. Вдоль стены стоял длинный, неопрятный верстак, по углам валялись ломаные люстры, бра и настольные лампы. Когда подряды иссякали, мы чинили этот хлам.
Хозяина я видел редко. Иногда он заходил в мастерскую, останавливался на пороге. Франтовато, не по возрасту одетый, в форменной инженерной фуражке, хотя никаким инженером он вовсе и не был, хозяин обводил свою мастерскую печальными выпуклыми глазами. Его толстое лицо отекало на белоснежный воротничок, как свеча. Никаких указаний он нам не делал — стоял, засунув руки в карманы просторных чесучовых брюк.
Я был у него однажды дома: хозяин послал меня с какой-то запиской к жене. Неряшливо полуодетая, красивая и грубо молодая, она распаривала мозоли, опустив маленькие крепкие ноги в таз. Лениво прочитав записку из моих рук, она сказала:
— От жлоб на мою голову!
Я подождал немного, но она больше ничего не добавила. Хозяин спросил у меня:
— Что она делала, когда ты пришел?
Я постеснялся сказать, что она мыла ноги.
— Читала, — ответил я.
— Что-нибудь передала мне?
— Привет, — ответил я. На большее у меня не хватило фантазии.
— Ты добрый мальчик, — сказал хозяин. И дал мне полтора миллиона на одно пирожное.
Прослужив у этого странного нэпмана год, я осенью, заполняя институтскую анкету, назвал себя рабочим. Меня вызвали в приемную комиссию.
— Подручный монтера, — громко, брезгливым голосом прочитал председатель комиссии. Он посмотрел на меня со сладострастием. — Это ты и есть подручный монтера?
— Я, — прошептал я.
— Тогда задаю наводящий вопрос: что такое курцшлюсс?
Я молчал. Мастер, с которым я работал, называл короткое замыкание — коротким замыканием. Мастер не употреблял слова «курцшлюсс». Но он был хороший мастер.
— Товарищи члены комиссии, — сказал председатель, — картина, по-моему, ясная: перед нами очередная липа. Есть предложение — вернуть хлопцу документы.
И мне снова вернули их.
С тех пор, с юношеских лет, я ненавижу свои документы. Я живу с ощущением, что в моих документах всегда что-то не в порядке.
Чего-то в них всегда не хватает. И то, чего недостает, оказывается самым главным.
В ящиках моего письменного стола накопилось за долгие годы множество справок, удостоверений, пропусков и членских билетов. Если собрать все это воедино, запрограммировать и нанести на перфокарту, то будущая кибернетическая машина сочинила бы по этим данным не меня.