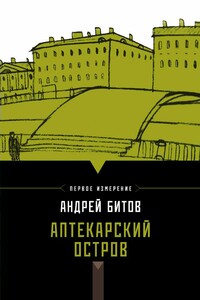КНИГА ЭТА ПРОИЗОШЛА как литературный памятник, то есть как новая литературная форма, значительно позже своего сенсационного успеха в качестве общественного события и, может, в академическом качестве памятника литературы и до сих пор не дошла вполне до сознания исследователя – слишком она до сего времени жива, слишком потрясающа и страшна, чтобы судить о том, как она сделана.
Книга потрясла содержанием, а не формой. Привилегия формы оставалась за Тургеневым, Л. Толстым. «Очень Вам благодарен за присылку 2 № “Времени”, которые я читаю с большим удовольствием. Особенно Ваши “Записки из Мертвого дома”, – пишет Иван Сергеевич из Парижа. – Картина бани просто дантовская, и в Ваших характеристиках разных лиц (напр. Петров) много тонкой и верной психологии». Снисходительность мэтра.
Про «баню» и про Данта сошлись во мнении многие поклонники. Но как раз «баня» и есть наиболее традиционное по стилистике и мышлению место в книге: Достоевский хотел поразить и потрясти – так вот: поразил и потряс. Про Данта он отчасти и сам думал. Начиная с «Бедных людей» Достоевского не покидало это страстное и отчасти обиженное стремление «всех потрясти»; оно, меняясь, сопутствовало ему до конца дней, до знаменитой Пушкинской речи, явившейся, наконец, триумфом. Но эта его некоторая слабость, вызывавшая насмешки с самого начала его пути (с тех же самых «Бедных людей»: пресловутый миф о требовании себе некой отдельной золотой каемочки…), малозначительна, потому что куда сильнее Достоевский каждый раз потрясается сам, и не тем, что, мол, неплохо написано, а тем миром, который описывает. Эта потрясенность его души оказалась долговечнее литературных вкусов или мечтаний автора о славе.
Достоевский писал первую в России книгу о каторге и мог ощущать себя Вергилием, проводящим читающую публику по кругам Дантова ада. Он был для себя и первым очевидцем, и первым летописцем – первооткрывателем как материала, так и формы. Книга так и показалась читателю – первой. Она открыла путь целой литературе на «пенитенциарную» тему. И доктор Чехов уезжал в свое единственное путешествие на каторжный Сахалин уже не в неведении. И в последующих описаниях тюрем и концлагерей – прихода в барак, наказаний или трудовых процессов – мы всегда узнаем предшествие Достоевского, каким бы самостоятельным и поздним ни был опыт автора. Достоевский был первым.
Можно, конечно, проследить традицию такого рода литературы до глубокой русской древности, включив сюда биографии русских святых, не пропустив Даниила Заточника (его «Моление» – исповедь интеллигента XIII столетия – мы невольно осмысливаем под замком острога), – провести эту линию с некоторыми зияниями вплоть до неистового протопопа Аввакума, «первого русского писателя», писателя уже в современном смысле слова, символизировавшего в своем «Житии» конкретный тюремный быт, впервые писавшего о себе как о литературном герое этого быта. Но вся та линия будет удел специальный, независимо от полноты и точности. О каторге мы впервые узнали у Достоевского.
Трудно, однако, гарантировать, что знал, а что не знал автор из выведенной специалистами череды предшественников, – может, и ничего не знал и ничему не придавал… Но можно точно говорить о традиции житийности в русской литературе (отмеченной Чернышевским) и об осознании места литературы в русской жизни, о нагрузке на литературу в России («Вся наша деятельность – литература» – известный приговор Белинского) – эти древние традиции, став более национальными, нежели известными, обрели современное звучание в «Мертвом доме».
Когда такой художник, как Достоевский, думает о Данте («Мертвый дом») или о Сервантесе («Идиот»), то это мысль не о форме, а о масштабе. Масштаб был взят. Но вряд ли кто думал, и он сам, что в нем скорее, чем «Божественная комедия», преобразуется роман Дефо.
Тут можно воскресить, едва ли не с большим основанием, иные, не только литературные, национальные традиции – некие подсознательные если и не глубины, то именно шири.