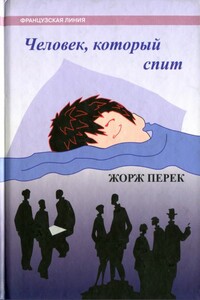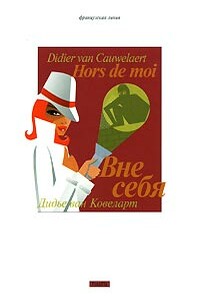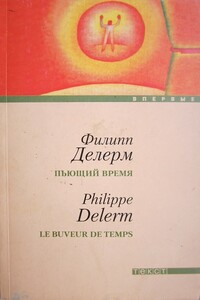— Но тогда почему?..
Теперь они не пожалеют времени — по счастью, вон там, в конце аллеи, открытое кафе. Почему? Она и сама толком не понимает. Просто она не могла уехать из Парижа, не узнав, как получилось, что она чуть не упустила картину.
— Я… я, наверное, хотела бы узнать, чем эта картина могла заинтересовать кого-то, кроме меня.
Они заказали по чашке кофе — символически преломили хлеб. Антуан довольно долго созерцал, как кофейная пенка сначала собирается в кружащийся венчик в середине чашки, а потом потихоньку расходится и оседает по стенкам.
— Ну, — произнес он наконец, — причины моего интереса прямо противоположны вашим. Имя Россини абсолютно ничего мне не говорит. Но если я в чем-то по-настоящему разбираюсь, то это в живописи такого рода. Ваш дед был, безусловно, очень талантлив. Но даже не в этом дело. Я убежден, и каждый день, с тех пор как упустил картину, твержу себе, что он не мог не знать другого художника, которому с некоторых пор посвящена вся моя жизнь. — Он посмотрел на нее со смущенной улыбкой: — Наверно, это звучит высокопарно, и все же…
Дальше беседа потекла свободно, как будто каждый из них, убедившись, что другой не представляет опасности, мог дать себе волю и выпустить наружу внутренний монолог, для которого вдруг нашелся слушатель. Антуан с жаром, дивясь собственной раскованности и разговорчивости, объяснял, что побудило его углубиться в изучение творчества Вюйяра и затеять работу, которая должна вылиться в биографию художника и каталог-резоне его произведений. Почти не дрогнувшим голосом он упомянул о гибели Мари и Жюли и признался, что именно это крушение заставило его взвалить на себя неподъемную задачу:
— Понимаете, мне хотелось исчезнуть, раствориться в Вюйяре.
Орнелла молча кивнула. Они встали и медленно пошли по другой аллее. Мельком взглянули на скелет динозавра в стеклянной витрине, остановились перед каруселью. Настал ее черед говорить, наполняя словами пустоту вокруг имени Сандро Россини.
— Вы же знаете, что значит семья для итальянцев. В нашей гостинице — она принадлежала моим родителям, а после смерти отца там распоряжаются мама с братом — есть зал, рядом со столовой. Все стены в нем увешаны фотографиями, и я всегда расспрашивала, кто где. Но стоило мне заикнуться о мамином отце — лицо ее, как сейчас помню, каменело. В конце концов я поняла, что причиняю ей боль, и перестала допытываться. Вот что значит для меня имя Сандро Россини. Запретное воспоминание. Понемногу, из туманных фраз о пагубном влиянии богемной среды, я поняла, что он был художником. Но в доме не сохранилось ни одного его рисунка, ни одного наброска. Ни фотографии, ни писем — ничего. Я все перерыла.
— Вы покажете картину матери и брату?
Она покачала головой: нет. Между ветками деревьев заиграли янтарные блики. Антуан и Орнелла болтали непринужденно, даже с чрезмерной откровенностью: легко довериться случайному собеседнику, которого, скорее всего, больше не увидишь. До чего забавные эти бегуны трусцой с наушниками CD-плеера в ушах! Вон там, в конце аллеи, Галерея эволюции.
— Через месяц у меня поездка в Испанию и Португалию — там выходит книжка. Наша гостиница рядом с церковью Фрари. Она указана во всех путеводителях, у нас всегда полно французских туристов. Ну, мне пора, а то опоздаю. Возьмете такси?
Он проводил ее до метро «Жюсье». Она спустилась по ступенькам, не оборачиваясь. А о «Кофейном льде» они и не поговорили.
* * *
— Зная вашу любовь к Венеции, Стален, я даже не спрашиваю, хотите ли вы принять участие, — с усмешкой сказала Натали Родзински, главный редактор журнала «Изобразительное искусство». В редакции разгорелись страсти по поводу проекта специального выпуска, посвященного венецианской живописи XVIII века. Со стороны Антуана конкуренции можно было не опасаться. Несколько лет тому назад он многим коллегам давал почитать книжку Режиса Дебре «Против Венеции», которую сам обожал. Из деликатности все в редакции делали вид, что все еще считают его таким же одержимым духом противоречия, неукротимым врагом всякой политкорректности, каким он был в ту пору. Хотя все знали, что это не так. После смерти Жюли и Мари он ушел в себя и ко всему охладел. Взывая к его былой неукротимости, товарищи как бы подчеркивали, что он ничуть не изменился, но за глаза сокрушались: он постарел лет на десять, осунулся, стал ужасно вялым.