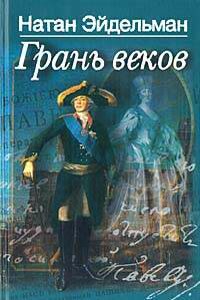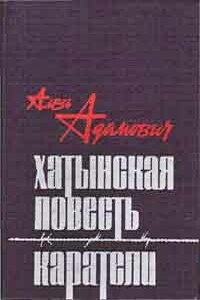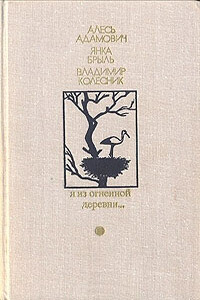9
Средняя Азия — особенно ее области к югу от Аральского моря — представляет собой образец такой части Земли, где вмешательство человека, создание им еще в древности большой сети оросительных сооружений привело позднее к появлению солончаков и пустынь очень большой протяженности. Как это произошло? Есть несколько объяснений, отчасти дополняющих друг друга. Не подлежит сомнению, что засоление почв и разрушение древней громадной системы оросительных каналов послужило одной из причин появления пустынь. Но могли быть и другие причины. О них спорили русские ученые еще в начале нашего века. Великий русский ученый, историк (автор недавно переизданной истории французской революции), географ и мыслитель (один из теоретиков современного анархизма, вновь ставший популярным на Западе после молодежных бурь 1968 года) П. А. Кропоткин, а за ним другие исследователи связи экологии с историей еще в начале нашего века предположили, что Центральная Азия постепенно усыхает, уменьшается ее увлажненность. В самом деле, накапливается все больше данных для того, чтобы считать, что с определенной периодичностью в Средней Азии жаркий климат сменяется более умеренным. Есть ученые, которые полагают, что именно в те века, на которые приходится увеличение аридного (жаркого засушливого) климата, из Средней Азии откочевывали значительные массы населения, вызывая этим переселения народов по всей Евразии. С такой гипотезой согласуется и высказанное нами вместе с грузинским лингвистом академиком Т. В. Гамкрелидзе предположение о том, что значительная часть индоевропейцев (носителей тех диалектов, из которых позднее образовалось большинство современных языков Европы), находившиеся после переселения из Передней Азии в Средней Азии, около III–II тысячелетия до н. э. из нее мигрировали в северо-западном направлении и через Волгу и Дон переселились в Северное Причерноморье (откуда позднее распространились по Европе). Среднеазиатский этап этих переселений можно было бы соотнести с одним из циклов изменений среднеазиатского климата. Замечу, что проблема периодичности этих изменений интересна не только для историка далеких эпох. Эту сторону дела следует иметь в виду и при планировании перераспределения водных ресурсов. Ведь если реальна перспектива увеличения аридности климата Средней Азии, все то количество полноценной пресной воды, которое туда можно бы направить при перераспределении стока сибирских рек, быстро испарилось бы и пропало для сельского хозяйства. Осмотрительная стратегия поведения должна принимать во внимание и все географические факторы, в особенности имеющие тенденцию к изменению. Напомним, что невнимание к меняющейся величине Каспийского моря оказалось одной из явно слабых сторон проекта переброски североевропейских рек: количество воды в Каспии собирались увеличить столь дорогостоящим образом в то самое время, когда она уже превысила нужный уровень. Любой проект, ориентированный на длительные сроки, должен опираться на долгосрочные прогнозы, в том числе и относящиеся к климату. В том, что касается вероятного изменения климата Средней Азии в сторону аридности, проект переброски в нее сибирских рек представляется попросту авантюристическим.
Но и одними только изменениями климата и одним лишь усыханием трудно объяснить упадок сельского хозяйства Средней Азии в средние века. Великий биолог и географ академик Л. С. Берг вступил по этому поводу в полемику (еще до первой мировой войны) со своим старшим современником П. А. Кропоткиным. Согласно Бергу, основную роль в запустении Средней Азии играли социальные причины — такие, как войны. Из-за войн и перемен власти разрушились оросительные сооружения. А после их разрушения население не имело средств к существованию и частью разбежалось, частью вымерло. Эту точку зрения на средневековую историю Центральной Азии поддержал и один из крупнейших русских востоковедов академик В. В. Бартольд в особом исследовании об истории среднеазиатского орошения, напечатанном еще в 1914 году и в программной статье 1926 года, где он говорил одновременно и о следах прошлого Средней Азии и о ее возможном будущем. На основании подробного описания Средней Азии, составленного арабскими географами тысячу лет назад (в 10 в. н. э.), Бартольд пришел к выводу, что уже тогда воды было не больше, чем в начале нашего века. А ведь возможности для орошения были очень большими, следовательно, проблема заключается не в увеличении абстрактного количества воды (как этого хотелось бы авторам проекта переброски вод), а в рациональной организации ее использования. Если некоторые основные действующие факторы (количество орошенных земель по сравнению с безводными) оставались постоянными, то выводы историка оказывались жгуче современными. Уже поэтому оправдан был призыв Бартольда при выполнении выдвигавшейся им задачи возрождения древних оазисов опираться на соединение работы историков и археологов с трудом ирригаторов. Но оправданность самой задачи, поставленной Бартольдом, еще надо доказать.