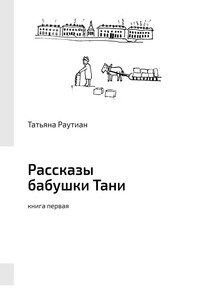Когда решался вопрос о моей аспирантуре, на кафедре знали, что я спортсменка, и это было единственной причиной, по которой руководитель кафедры академик Сергей Евгеньевич Северин несколько сомневался во мне.
Впрочем, думается, мне удалось рассеять эти сомнения, и по окончании аспирантуры я получила от Сергея Евгеньевича лестное предложение поехать на десятимесячную стажировку за границу. Огромный был соблазн, но прервать на такой долгий срок тренировки, оставить Пепла я не могла.
Быстро окончить аспирантуру мне помогло приличное знание английского. Первый год занятий уходит на подготовку кандидатского минимума — на философию и иностранный язык, и аспирантам задают переводить жуткое количество «страничек». А я сдала язык тотчас, чем освободила себе время.
Английский у нас еще в школе преподавали очень хорошо, а в университете — опять-таки для экономии времени — я взялась сразу читать неадаптированные книжки. С первой мне приходилось чуть ли не за каждым словом лазить в словарь, со второй пошло легче, с третьей — еще легче. Но известно, что между пассивным пониманием языка и активным владением им, умением разговаривать высится психологический барьер, и, чтобы перепрыгнуть его, нужно было усилие, особенно трудное для меня при моей закомплексованности. Помню, попав в первый раз на чемпионат Европы в Данию в 1965 году, я, уже очень прилично зная английский, каждое утро по большой дуге обходила портье отеля, чтобы не говорить ему простого "здравствуйте".
Переступить же барьер меня, как и многих людей, заставила необходимость: на соревнованиях за рубежом нужно было общаться со спортсменами и тренерами из других стран. Для этого вполне хватало английского, и когда я ради собственного удовольствия взялась за французский, то занималась им лениво и дальше умения читать Сименона без словаря не пошла. Вообще, я убедилась, что для меня нужно ощущение настоятельной необходимости — одного удовольствия мало.
Кто-то из знаменитых ученых в шутку сказал, что наука есть способ удовлетворения собственного любопытства за государственный счет.
Когда читаешь научные статьи, кажется, что строгая логика изложения почти не оставляет места, для творческого воображения, настолько естественным и органичным представляется каждый этап, каждый последующий шаг в работе. Это обманчивое ощущение объясняется тем, что все уже сделано, все получено, устоялось. Прежние сомнения, ложные шаги и тупики отметены, поиски и находки разложены по полочкам.
Научное исследование — увлекательнейшая работа, и в изложении ученых, обладающих популяризаторским даром, описание пути к открытию захватывает не меньше, чем хороший приключенческий роман. Но порой, чтобы написать страницу этого романа, требуются месяцы, годы каждодневного, достаточно однообразного, рутинного труда, повторение снова и снова одних и тех же экспериментов. Терпение и настойчивость вознаграждаются маленьким открытием — открытием скорее для себя, потому что в масштабах большой науки это лишь крошечный шажок к истине. Но он твой, он несет тебе счастье. Наука в определенном смысле не менее эмоциональна, чем спорт.
Я была счастлива, что меня оставили в аспирантуре, тем более что получила возможность продолжить тему, увлекшую меня в период работы над дипломом.
Моя диссертация называлась "Влияние природных имидазольных соединений на сократительные и ферментативные свойства мышечных белков". Попытаюсь несколько расшифровать это таинственное название, хотя популяризатор из меня плохой.
Прежде всего, хотя в названии фигурируют мышечные белки, а тема связана с проблемой сокращения мышц, к спорту она не имеет никакого отношения. Подчеркиваю это потому, что ассоциация напрашивается, и мне часто говорят: "Ты спортсменка, вот и тема у тебя такая". Совпадение здесь случайно, формально, хотя и не исключено, что в отдаленном будущем результаты фундаментальных исследований в этой области могут найти применение в медицинской практике и в спорте. Проблема механизма мышечных сокращений на молекулярном уровне стоит в ряду важнейших проблем современной молекулярной биологии, над ней работают целые институты.