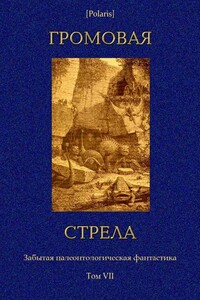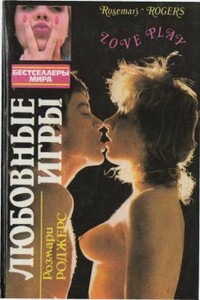Старенький мотор перегревался, и металл жег мне ноги сквозь подошвы туфель; шофер был не обут. Целый час мчались мы с бешеной скоростью по проселочной дороге, то взлетая на холм, то стремительно скатываясь вниз; впрочем, ощущение головокружительной скорости было обманчивым, его создавали толчки, подпрыгивавший за окном машины пейзаж, запах бензина и жара; вряд ли грузовик делал больше двадцати миль в час. Машины все еще редки в этом уголке Сьерра-Леоне; встречные мужчины карабкались на придорожную насыпь, женщины спасались в кусты или, закрыв лицо руками, опускались на корточки у насыпи, в то время как, наводя на них трепет, мимо проносилась сама цивилизация, окутанная зловонным дымом.
Когда мы приехали в Кайлахун, там было всего двое белых — окружной комиссар и инженер-шотландец, руководивший постройкой моста; но вечером появился третий — незнакомец с черной бородкой и бритой, как у монаха, головой, в майке и грязных парусиновых брюках. Комиссар прибыл тем же поездом, что и мы: он выезжал на станцию Сегбвана расследовать дело об убийстве, приписывавшемся тайному обществу Гориллы. Кто-то похитил и убил ребенка, а какая-то женщина клялась, что видела гориллу и что горилла была в штанах.
Какой-то мужчина сознался, но никто из чиновников не верил, что он настоящий убийца. Правда, при нем нашли нож с искривленными зубцами, оставлявший рваные раны; за одно хранение такого ножа полагалось четырнадцать лет тюремного заключения. Комиссар — невысокий брюнет, умный, подвижной и впечатлительный — был в этих местах новичком; что-то неладное случилось с тремя его предшественниками. Уж много лет округ раздирался пограничными распрями между двумя вождями: ходили слухи, что в пищу тут порой подмешивают «лекарство», а через месяц комиссар снова должен был остаться один как перст (инженер собирался уехать). Комиссар получал новинки из книжного клуба газеты «Таймс»; прочитав, он ставил их на полку, и там они гнили.
Инженер забился в угол и молча курил. Он не читал книг и не умел поддерживать беседу; этому седому, кряжистому, медлительному человеку можно было дать лет шестьдесят; просто не верилось, что ему не так давно пошел пятый десяток. По его словам, одиночество было ему нипочем; он чувствовал себя здесь отлично, даже лучше, чем в Англии. Но он умалчивал о том, что у него пошаливают нервы.
— Вас тут дожидается человек из Либерии, — сказал окружной комиссар.
Это было именно то, чего я боялся, — приставленный к нам провожатый будет следить за тем, чтобы мы не отклонялись от предписанного властями маршрута. Окружной комиссар послал за человеком из Либерии слугу, а тут как раз и появился незнакомец в майке и грязных штанах. Каждый из нас решил про себя, что незнакомец и есть провожатый, никто не поднялся с места и не предложил ему выпить; этот человек с бритой головой и диковинной козлиной бородкой был Врагом. Он терпеливо стоял и молча выслушивал распоряжения комиссара.
— Ты покажешь этому джентльмену дорогу в Болахун. Он отправится послезавтра. Ты знаешь, как найти миссию Святого креста?
Да, знает, он как раз оттуда.
Прошло немало времени, прежде чем его догадались спросить, он ли человек, присланный из Либерии. Нет, тот куда-то исчез, незнакомец же был немцем. Ему нужен был ночлег, и он завернул в Кайлахун невзначай, словно в какую-нибудь немецкую деревню, где наверняка можно найти гостиницу. Вел он себя непринужденно, но с какой-то вежливой загадочностью; по его словам, он пришел из Либерии и снова туда возвращается; ни малейших подробностей о том, зачем он пришел, почему возвращается назад и что вообще делает в Африке, он не сообщил.
Я принял его за золотоискателя, но позднее обнаружилось, что он не имеет ни малейшего отношения к такай грубой материи, как золото или алмазы. Он просто изучает жизнь. Откинувшись на стуле с видом полнейшего безразличия ко всем окружающим, он только усмехался, когда ему задавали вопрос (при этом вам казалось, что вы сморозили какую-то чушь), и отвечал после такой долгой паузы, что вы уже успевали забыть, о чем спрашивали. Несмотря на бородку, он был еще молод и, хотя одет как последний проходимец, держался аристократически, а ума у него было явно больше, чем у нас всех, вместе взятых. Ведь ему одному было твердо известно, что именно он хочет разузнать и что от него еще скрыто. Он говорил на менде, изучал бузи и мог с грехом пополам объясняться на пелли: языки требовали времени, а он находился в Западной Африке всего два года.