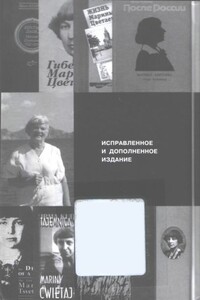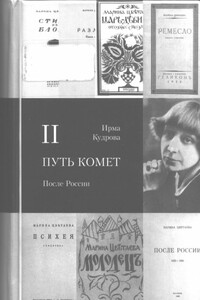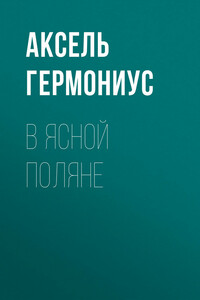Так считала двадцатидевятилетняя Марина.
2
Тем временем в Москве появляются номера только что родившегося русского зарубежного журнала — «Современные записки». И в первых же номерах были помещены стихи Цветаевой! Кто способствовал этому? Возможно, посредником оказался Бальмонт.
В 1921 году вышел уже седьмой номер, в котором не только цветаевские стихи, но и обширное предисловие к ним Константина Бальмонта. Сердечностью тона оно соперничает с тем, что несколько позже написал Волконский. Но кроме восхищения мужеством и независимостью Марины в революционной Москве, Бальмонт дает высокую оценку ее поэзии: «Ее своеобразный стих, полная внутренняя свобода, лирическая сила, неподдельная искренность и настоящая женственность настроений — качества, никогда ей не изменяющие…» И тут же: «Наряду с Анной Ахматовой Марина Цветаева занимает в данное время первенствующее место среди русских поэтесс».
Впервые имя Цветаевой было поставлено рядом с прославленным именем петербургской поэтессы. И не присяжным критиком — самим Бальмонтом!
В мае 1921 года из Крыма приехала наконец сестра Ася с сыном. Без помощи Марины это вряд ли могло бы осуществиться: старшая сестра сумела достать и переправить в Крым необходимые документы, да еще и пуд муки — для выручки денег на дорогу.
Но в Борисоглебском Ася прожила не слишком долго, переехала на Плющиху. Что-то словно надтреснулось в их отношениях за время разлуки. Близость сестер, некогда так изумлявшая их гимназических подруг, не растаяла, но стала иной.
Силуэт М. Цветаевой работы Е. С. Кругликовой
Они обе изменились — внешне и внутренне, и Марина особенно. Внешние перемены в сестре Асю удручили: та красавица, какой старшая Цветаева стала в период коктебельского лета 1911 года и оставалась вплоть до дня их расставания в Феодосии в октябре 1917-го, — эта красавица исчезла. Одутловатость щек, желтизна кожи; даже в жестах и словах сестры Анастасия горестно отмечала странные перемены.
Фотографий Цветаевой того времени не существует, но есть силуэт, выполненный Кругликовой: гордо и даже как будто весело закинутая головка, четкий красивый профиль, белый воротничок на широкой блузе…
Главное, что Марина хотела услышать при встрече от сестры: встречала ли та в Крыму Сережу?
— Да, только давно, — отвечала сестра, с ужасом ожидая дальнейших расспросов.
— Но ты слышала о нем что-нибудь? — продолжала допытываться Марина. — Жив? Нет? Только говори правду!
В ответ Асе пришлось мужественно солгать:
— Нет, ничего не слышала…
И это было неправдой. Она слышала однажды о каком-то Эфроне, якобы расстрелянном в Джанкое. Но достоверного ничего узнать ей тогда больше не удалось.
За три с половиной года слишком многое было пережито обеими. И пережито по-разному. Это не могло пройти бесследно. Вскоре сестры сочли за благо жить врозь — тем более подвернулся случай…
Душевное состояние Марины день ото дня тяжелеет. Она ждала от Эренбурга утешающих — или страшных! — известий через месяц-другой после его отъезда. Но уже наступает лето — и ничего.
Перепись текстов Волконского завершена. Этот долг исполнен. Ей не за что больше уцепиться! Марина не находит себе места.
Впрочем, один выход еще оставался: стихи! Ее спасательный круг.
Несколько стихотворений, созданных в июне, она объединит потом в книжечке «Разлука». Так назван и цикл, получивший посвящение «Сереже». Но если прочесть внимательнее восемь его стихотворений, ясно: Цветаева готовилась в эти дни к особой разлуке. С дочерью — и с жизнью. Еще раньше, в начале 1920 года, в письме к Звягинцевой: «Если С. нет в живых, я все равно не смогу жить…» Спустя год она не рассталась с этой навязчивой мыслью.
Не крадущимся перешибленным зверем, —
Нет, каменной глыбою
Выйду из двери —
Из жизни…
В тот град осиянный,
Куда — взять
Не смеет дитя
Мать.
Цикл был закончен 17 июня.
Через семь дней начат следующий — «Георгий». Напряжение не отпускает Марину. Кажется, как только она отложит перо, настанет момент необратимых решений.
26 июня создано одно стихотворение нового цикла, 28-го — еще два, 29-го — еще два, 30-го — еще одно. Как всегда, когда она захвачена сильным чувством, стихи льются неукротимым ливнем. Святой Георгий на белом коне, в красном плаще, копьем пронзающий гада, кроткий Георгий, затравленный сворой… Нет сомнений: это портрет Сережи! Но теперь он уже вознесен на икону.