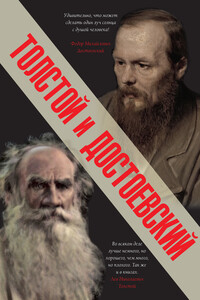Я не понимала в юности, что такое искусство, но все обыденное казалось мне скучным. Я все ждала: где-то, когда-то увижу настоящее. Может быть, это и было верой моей в жизнь и надеждой моей на будущее.
Когда я болела в детстве (болели мы, дети, редко), я любила искать лица в рисунках ковра, что висел над диваном (кроватей в Бессарабии почти не бывает), — лица то смешные, то красивые, то страшные.
Первый раз в жизни в театр я пошла лет одиннадцати. Шла пьеса «Измаил». Когда увидела человека в пудреном парике и он произнес «Зофи» (вместо «Соня» или даже «Софи»), меня прохватила дрожь, такая, что стучали зубы.
И сейчас нет‑нет, да и проносится по мне эта леденящая и обжигающая дрожь театра. Если замрет эта внутренняя дрожь — значит, душа пуста.
В тот первый раз, что я побывала в театре, я и полюбила театр. Навсегда.
Приезжал к нам в Кишинев такой актер — Лирский-Муратов. И была такая пьеса — «Отметка в поведении». Лирский-Муратов играл в ней гимназиста, получившего плохую отметку по поведению и кончающего жизнь самоубийством.
Мы всем классом сострадали герою пьесы, воплощаемому любимым актером. Иногда падали в обморок, и это не было симуляцией или разнузданностью — с героем спектакля бились наши сердца. Он на сцене умирал, мы в зрительном зале теряли сознание. Классные дамы негодовали, находили непристойными «буйные» наши страсти. В действительности причина этих «массовых обмороков» была абсолютно платонической.
Нравы в гимназии были строгие. Замеченных в посещении оперетты исключали.
Во мне уживалась схимница с фантазеркой. Мирилась с тем, что есть, и стремилась к невозможному…
{17} Невозможное становилось возможным.
И я попала в этот большой и дивный город моих мечтаний: я попала в Москву! Как это случилось?
Так.
У моей матери от первого брака были две дочери. Одна из них училась в Петербурге, на медицинских курсах. Выпустили ее из тесного кольца семьи после споров, скандалов, истерик. Почти невозможно сейчас представить себе, сколько в те годы перед девушкой, стремящейся к высшему образованию, стояло препятствий. Во всей силе было мнение княгини Тугоуховской, что
… в Петербурге институт
Пе‑да‑го‑гический, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и в безверьи
Профессоры!!…
Сестра преодолела препятствия, уехала в Петербург, поступила на курсы и вся растворилась в науке.
Анатомический театр увлекал ее гораздо больше, чем просто театр. Но тем не менее тому, что сцена не как мечта, а как реальность возникла в моей жизни, я обязана сестре и чудесному событию: в Петербург на гастроли приехал Московский Художественный театр. Кажется, это случилось в 1906 году, перед весной. Из бессарабского землячества администрация театра пригласила нескольких курсисток для изображения «толпы» в «Докторе Штокмане». Живая, яркая, общительная сестра оказалась в числе избранных.
Выступление в «Докторе Штокмане» для нее было лишь развлечением, но для моей жизни оно имело решающее значение: когда летом сестра приехала в Кишинев, я увидела у нее фотографическую карточку неизвестного мне господина, седого, но с черными, как уголь, бровями и такими же черными усами. «Господин» глянул на меня с карточки прищуренными и все же лучистыми глазами. На обороте карточки уверенным красивым почерком сделана была надпись: «Такой-то (имярек) в благодарность за любезное участие в “Докторе Штокмане”. К. Алексеев-Станиславский».
— Кто это?
— Артист. Главный артист одного московского театра. Я играла с ним вместе на сцене. Да. Играла. И он был мною очень доволен.
Сестра внимательно посмотрела на меня.
— Серафима! Поступай в этот театр… Гимназию ты кончила. Тебе шестнадцать лет. Поступай! Может быть, из тебя что-нибудь и выйдет. А театр этот хороший. Художественный! Все хвалят…
Да… Тот день был особенный: впервые я узнала, что есть на свете Московский Художественный театр, впервые услышала светлое имя Станиславского. И всем этим навсегда прониклась я. {18} Так, через сотни, а может быть, и тысячи километров ветер переносит семена, и они прорастают в новой почве, при благоприятных, конечно, климатических условиях.