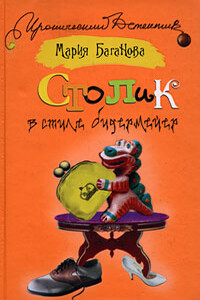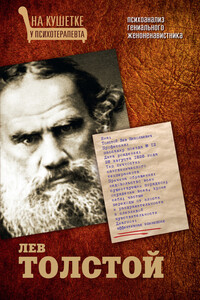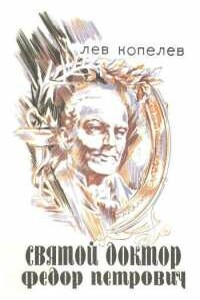– А сам он это как-нибудь объяснял? – поинтересовался я.
– Сказывают, что Пушкин, кончив, с сердцем сказал: «В другой раз не станут просить!» Вот вам все объяснение, – ответил барон. – И вот из-за таких, как вы правильно выразились, «выходок» и прослыл он вольнодумцем. Вот, например, дошедшее до меня его высказывание, которое уж явно не могло понравиться государю. Как-то в одно из своих посещений Английского клуба на Тверской Иван Иванович Дмитриев заметил, что ничего не может быть страннее самого названия: Московский Английский клуб. Случившийся тут Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что у нас есть названия более еще странные. «Какие же?» – спросил Дмитриев. «А Императорское Человеколюбивое Общество», – отвечал поэт.
– Очень язвительно и несправедливо, – согласился я. – И более чем неосторожно. Говорю это не только из верноподданнических чувств, но как человек, не понаслышке знакомый с заботой нашего государя о сирых и беспомощных…
– Да, знаю, как врач вы вполне можете об этом судить, – с улыбкой остановил меня барон. – А со Львом Сергеевичем вам доводилось встречаться?
– Один раз, в доме его родителей, – ответил я. – Признаюсь, встреча меня расстроила, я пытался объяснить ему вред чрезмерного винопития, но он и слушать не стал.
– Брат Лев – добрый малый, – вздохнул барон, – но тоже довольно пустой, как отец, а к тому же рассеянный и взбалмошный, как мать. В детстве он воспитывался во всех возможных учебных заведениях, меняя одно на другое чуть ли не каждые две недели, чем приобрел себе тогда в Петербурге род исторической известности и, наконец, не кончив курса ни в одном, записался в какой-то армейский полк юнкером, потом перешел в статскую службу, потом опять в военную, был и на Кавказе, и помещиком, кажется – и спекулятором, а теперь не знаю где. Печальное пристрастие к винопитию сгубило его карьеру. Поговаривают, что Лев Пушкин пьет одно вино – хорошее или дурное, все равно, – пьет много, и никогда вино на него не действует. Он не знает вкуса чая, кофея, супа, потому что там есть вода… Рассказывают, что однажды ему сделалось дурно в какой-то гостиной, и дамы, тут бывшие, засуетившись возле него, стали кричать: «Воды, воды!» – и будто бы Пушкин от одного этого ненавистного слова пришел в чувство и вскочил как ни в чем не бывало.
Корф рассмеялся. Поняв, что он по примеру хозяина дома потчует меня светскими анекдотами я тоже улыбнулся. Время было уже позднее, я еще раз провел беглый осмотр, убедился, что состояние больного улучшилось, и, пожелав его превосходительству отдыхать, удалился с обещанием, что приду на следующий день.
Я навестил барона Корфа назавтра и в третий день, когда нашел его уже почти что выздоровевшим и в хорошей компании. Навестил его князь Петр Андреевич Вяземский, с которым доводилось мне встречаться лет за пять до того. Был с ними и третий, какой-то армейский офицер, которого мне представили, но чью фамилию я, каюсь, забыл совершенно. Мне было приятно, что князь запомнил меня и теперь приветствовал как хорошего знакомого. Оказалось, что барон рассказал ему о нашей беседе, и теперь они спорили, обсуждая характер покойного Пушкина. Барон был неумолим в своей суровости.
– Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда и без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в тесном знакомстве со всеми трактирщиками…ями и девками, Пушкин представлял тип самого грязного разврата, – негодовал барон Корф. – Начав еще в Лицее, он после, в свете, предался всем возможным распутствам и проводил дни и ночи в беспрерывной цепи вакханалий и оргий, с первыми и самыми отъявленными тогдашними повесами. Должно удивляться, как здоровье и самый талант его выдерживали такой образ жизни, с которым, естественно, сопрягались частые любовные болезни, низводившие его не раз на край могилы.
– Никакого особенного знакомства с трактирами не было, и ничего трактирного в нем не было, а еще менее грязного разврата. Сколько мне известно, он вовсе не был предан распутствам всех родов. – возражал ему Вяземский. – Пушкин не был монахом, а был грешен, как и все в молодые годы. В любви его преобладала вовсе не чувственность, а скорее поэтическое увлечение, что, впрочем, и отразилось в поэзии его.