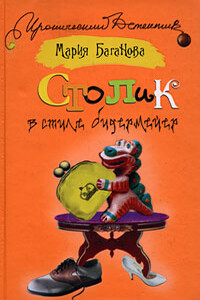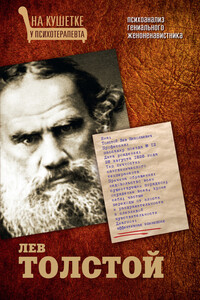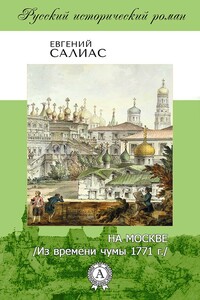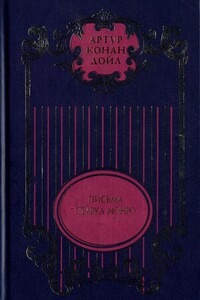Эта выходка меня искренне рассмешила, так как не была связана с кровью и возможной гибелью ее участников.
– Тогда я пережил полосу наиболее острого увлечения, почти отравления Байроном! – продолжил Пушкин. – Носил черный плащ – Гарольдов, повязывал шейный платок, как он. Мечтал уехать в Грецию… – Он загрустил, думая о несбывшемся. – Случай дал мне возможность сблизиться с его бывшей любовницей. Звали ее Калипсо Полихрони. – Он с явным удовольствием выговорил это странно звучащее греческое имя. – Была она чрезвычайно маленького роста, с едва заметной грудью и длинным сухим лицом, всегда нарумяненным. Хорошенькой ее трудно было назвать. Приятеля моего сильно смущал ее огромный нос, как бы сверху донизу разделявший лицо, но огненные, сильно подведенные глаза, густая и длинная коса были привлекательны. В обществах она мало показывалась, но дома радушно принимала. Ни в обращении ее, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости; если бы она жила в век Перикла, – история верно бы нам сохранила имя ее вместе именами Фрины и Лаисы. Относительно дальнейшей судьбы Калипсо сохранились романтические, но малоправдоподобные рассказы. Она якобы удалилась в мужской монастырь, где жила под видом послушника, исправно посещая все церковные службы и удивляя монахов своим благочестивым рвением. Никто не подозревал в ней женщины, и ее инкогнито было разоблачено только после ее смерти.
– Кажется, была она женщиной незаурядной, – предположил я.
– Без сомнения! Кроме турецкого и греческого, она знала арабский, молдаванский, итальянский и французский языки. Пела она забавно – на восточный тон, в нос; любила турецкие сладострастные заунывные песни, с аккомпанементом глаз, а иногда жестов. «Черную шаль» пела. Пушкин принялся напевать, а я с удовольствием вторил ему: «Гляжу, как безумный, на черную шаль,/ И хладную душу терзает печаль. / Когда легковерен и молод я был,/ Младую гречанку я страстно любил..»
Так дуэтом мы допели почти до конца, до строчек «Неверную деву ласкал армянин».
– Худобашева Александра Макаровича знаете? – вдруг спросил Пушкин.
Я ответил, что хоть фамилия этого писателя мне знакома, равно как и его произведения.
– Так Александр Макарович, будучи армянином, принял это на свой счет, он действительно отбил у меня одну кишиневскую даму. Так я специально каждый раз, завидев его, принимался читать свою «Черную шаль». Ах, как он злился! – Пушкин потер руки.
– Но хорошо ли это? – спросил его я.
Пушкин снова стал весел.
– Наши ссоры всегда заканчивались смехом и примирением, – заверил меня он. – Я бросал Худобашева на диван и садился на него верхом, приговаривая: «Не отбивай у меня гречанок!» Это нравилось и льстило Александру Макаровичу, воображавшему, что он может быть мне соперником, ведь он лет на двадцать меня старше.
– А что еще вы написали в Кишиневе?
– Посылал я тогда в столицу много своих бессарабских бредней, но печатали мало: целомудренную дуру – цензуру мои стихи очень тревожили. Но тогда мы обманули старушку, ибо она очень глупа – по-видимому, ее настращали моим именем, так мы поднесли ей мои вирши под именем кого-то другого… И все было слажено.
– То есть ваши стихи были изданы под именем другого? – оторопел я.
– Именно так. И не раз так было, – он хитро прищурился, – и не только стихи… Вот была сказка…
– Какая? – не удержался я. И ошибся!
Пушкин вдруг замолчал.
– Не скажу, – проговорил он. – Уговор наш с бездарным писакой, отдавшим мне свое имя, был таков, что я получаю деньги, он – славу. А уговоры надо выполнять. Ну а коли я сейчас начну сплетничать, что, мол, это я написал и это тоже мое сочинение… То так можно приписать себе и «Юрия Милославского».
– А это тоже? – удивился я.
– Нет! – Пушкин замахал руками. – Это не мое. Сие творение господина Загоскина принадлежит только ему, не мне, и «Рославлев» также.
– Расскажите еще про Кишинев, – попросил я.
– Проклятый город Кишинев… – с тоской в голосе пробормотал он. – О нем больше и нечего рассказывать. Тем более, что летом 1823 года благодаря хлопотам Тургенева считавшего Кишинев губительным омутом, я был переведен в шумную, многолюдную и кипевшую жизнью Одессу. Друзья надеялись, что перемена послужит мне на пользу. Я был счастлив и неблагодарен по отношению к доброму старику Инзову. Отъезд мой его огорчил. Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым!