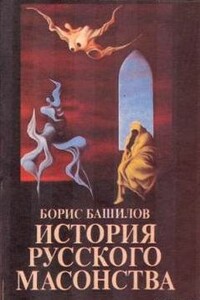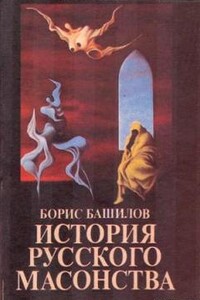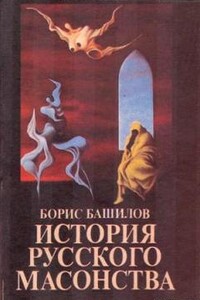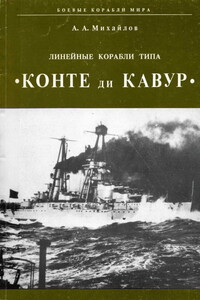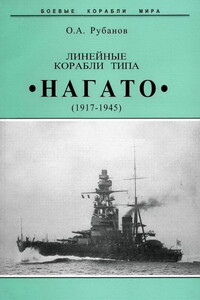«…Молодость, — сказал Пушкин, — это горячка, безумие, напасть. Ее побуждения обычно бывают благородны, в нравственном смысле даже возвышенны, но чаще всего ведут к великой глупости, а то и к большой вине.
Вы, вероятно, знаете, потому что об этом много писано и говорено, что я считался либералом, революционером, конспиратором, — словом, одним из самых упорных врагов монархизма и в особенности самодержавия. Таков я и был в действительности. История Греции и Рима создала в моем сознании величественный образ республиканской формы правления, украшенной ореолом великих мудрецов, философов, законодателей, героев; я был убежден, что эта форма правления — наилучшая. Философия XVIII века, ставившая себе единственной целью свободу человеческой личности и к этой цели стремившаяся всею силою отрицания прежних социальных и политических законов, всею силою издевательства над тем, что одобрялось из века в век и почиталось из поколения в поколение, — эта философия энциклопедистов, принесшая миру так много хорошего, но несравненно больше дурного, немало повредила и мне. Крайние теории абсолютной свободы, не признающей над собою ничего ни на земле, ни на небе; индивидуализм, не считавшийся с устоями, традициями, обычаями, с семьей, народом и государством; отрицание всякой веры в загробную жизнь души, всяких религиозных обрядов и догматов, — все это наполнило мою голову каким-то сияющим и соблазнительным хаосом снов, миражей, идеалов, среди которых мой разум терялся и порождал во мне глупые намерения».
То есть в дни юности Пушкин шел по шаблонному пути многих. Кто в 18 лет — не ниспровергатель всех основ!?
«Мне казалось, что подчинение закону есть унижение, всякая власть — насилие, каждый монарх — угнетатель, тиран своей страны, и что не только можно, но и похвально покушаться на него словом и делом. Не удивительно, что под влиянием такого заблуждения я поступил неразумно и писал вызывающе, с юношеской бравадой, навлекающей опасность и кару. Я не помнил себя от радости, когда мне запретили въезд в обе столицы и окружили меня строгим полицейским надзором. Я воображал, что вырос до размеров великого человека и до чертиков напугал правительство. Я воображал, что сравнялся с мужами Плутарха и заслужил посмертного прославления в Пантеоне!»
«Но всему своя пора и свой срок, — сказал Пушкин во время дальнейшего разговора с графом Струтынским. — Время изменило лихорадочный бред молодости. Все ребяческое слетело прочь. Все порочное исчезло. Сердце заговорило с умом словами небесного откровения, и послушный спасительному призыву ум вдруг опомнился, успокоился, усмирился; и когда я осмотрелся кругом, когда внимательнее, глубже вникнул в видимое, — я понял, что казавшееся доныне правдой было ложью, чтимое — заблуждением, а цели, которые я себе ставил, грозили преступлением, падением, позором! Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким божеским законом, никакими общественными устоями, та свобода, о которой мечтают и краснобайствуют молокососы или сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна как для личности, так и для общества; что без законной власти, блюдущей общую жизнь народа, не было бы ни родины, ни государства, ни его политической мощи, ни исторической славы, ни развития; что в такой стране, как Россия, где разнородность государственных элементов, огромность пространства и темнота народной (да и дворянской!) массы требуют мощного направляющего воздействия, — в такой стране власть должна быть объединяющей, гармонизирующей, воспитывающей и долго еще должна оставаться диктатуриальной или самодержавной, потому что иначе она не будет чтимой и устрашающей, между тем, как у нас до сих пор непременное условие существования всякой власти — чтобы перед ней смирялись, чтобы в ней видели всемогущество, полученное от Бога, чтобы в ней слышали глас самого Бога. Конечно, этот абсолютизм, это самодержавное правление одного человека, стоящего выше закона, потому что он сам устанавливает закон, не может быть неизменной нормой, предопределяющей будущее; самодержавию суждено подвергнуться постепенному изменению и некогда поделиться половиною своей власти с народом. Но это наступит еще не скоро, потому что скоро наступить не может и не должно».