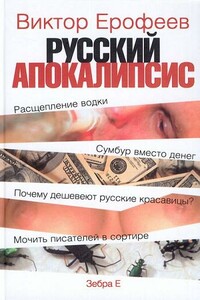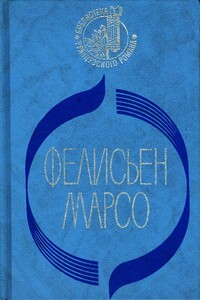— Простишь ли ты меня, мой сын?
— Прощу, тато! — немедленно ответил изрядно охуевший Женька.
— Ну как же можно меня так просто простить? — с неудовольствием всплеснул руками Иван Сергеевич. — Я засовывал револьверы в пизды сдобных литовок и открывал бешеную пальбу…
— Ужас, ужас! — схватился за голову Женька. — Но такое время было, тато. Война.
— Наше дело было правое, сын мой.
— Розумем.
— Я разбивал литовским младенцам головы об заборы!
Женька крякнул:
— А это зачем, тато?
— Чтобы лучше бороться с фашизмом.
— Так-так, розумем.
— Я посылал невинных хлеборобов в газовые камеры!
— Разве у комиссаров тоже были газовые камеры? — изумился Женька.
— У нас все было, — грустно сказал Иван Сергеевич.
— Тато, — сказал Женька, — каким бы ты ни был, я рад, что тебя нашел.
Со слезами на глазах он поцеловал отцу правую руку.
— Тогда помолимся перед иконой, — сверкнул глазами Иван Сергеевич и потащил Женьку в соседнюю комнату, где упал на колени, а также Женьку понуждал упасть рядом с ним. Женька, отравленный католицизмом, отказывался.
В результате несоответствия, разрушавшего, по моей догадке, основы карательной программы (Женькино благодушие, что ли?), наступила заминка, своего рода тайм-аут для обдумывания продолжения. Когда время двинулось вновь, Женька раскрыл рот.
— Семейная! — с гордостью сказал отец, — Вот единственная женщина, которую я люблю.
На Женьку взирала скорбящая Матка Бозка в форме русской бесценной иконы. Золотой оклад был утыкан каменьями и сиял, как престольный праздник.
— Какой век? — спросил я Женьку.
— Пятнадцатый.
— Ты религиозный, тато?
— Очень, — был тихий ответ.
— Прости его, — страстно попросил Женька православную мадонну, становясь на колени. — Прости грешного старика.
Женька всегда мечтал о богатстве. Иван Сергеевич искушал согласием на ее вывоз. Я ездил порой по служебному паспорту повышать квалификацию польским учителкам русского языка, разводящим выдр, норок и кроликов. Отец с сыном стали бешено меня обхаживать, засовывали в рот ложки с черной икрой.
Не говорил «нет», но внутренне наотрез отказался. Тем временем они за руки гуляли по Александровскому саду и посещали Третьяковскую галерею.
Когда на третий день осмотрели ВДНХ, Женькин отец, на сон грядущий встав перед иконой, спустил штаны.
Складки живота были изранены неровными следами резинок. Возле пупка четко отпечаталась пуговица, как доисторическая птица на камне. Его лицо стало вдруг озорным. — Присоединяйся!
Женька присмирел от предложения. «Да, — промелькнуло в Женькиной голове, — верно говорят у нас в Польше: с немцами теряешь свободу, с русскими — душу».
— Давай вместе!
— Не хце!
— Ты думаешь, это кощунство?
Теперь, через много лет, мне кажется, я понимаю далекий замысел вопроса. Крикни Женька «да», все бы, наверное, обошлось. Вместо этого он испытал постыдное чувство возбуждения от переизбытка резкого отвращения.
Озорной, отечный ревизор, беседующий с божеством на собственном языке, не мог этого не заметить. Ревизорский глаз — алмаз. Обратившись в бегство, Женька спрятался в ванной. Иван Сергеевич быстро-быстро стал объясняться в любви.
Ну, онанист… Во всяком случае, именно как курьез поведал мне Женька эту забавную историю.
Тогда… что было тогда? Тогда, без проволочек, был сделан радикальный ход. На следующий вечер они выпили сильно. Они спотыкались о ковры, бились о мебель и двери.
— Ну, давай помиримся, — предложил Иван Сергеевич.
— Хорошо, — сказал Женька.
— А ты кто такой? — спросил Иван Сергеевич.
— Сам знаешь, — сказал Женька.
— Не знаю, — заупрямился Иван Сергеевич.
— Ты чего хочешь? — спросил Женька.
— Любви, — сказал Иван Сергеевич. Он заплакал. — Ты думаешь, мне жалко иконы? Она — твоя. На — бери. Но ты меня тоже не забывай. Тебе что, трудно, что ли?
— Я не забываю, — холодея, пролепетал Женька.
Ну, конечно, он был двустволка, как всякий подающий надежды актер. У него был свой маленький опыт, которым он, естественно, гордился. А с другой стороны, продать и зажить. Короче, он ответил отцу не то чтобы вяло, но невнятно (ты чего? вообще того?), и мне, не слишком уверенному ни в этом пьяном диалоге, ни в дагестанских коврах, о которые они спотыкались, ни даже в предыдущем околоиконном извержении — ни в чем, мне больно продолжать…