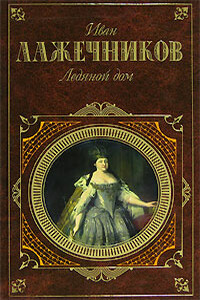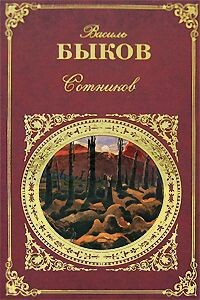Пунин и Бабурин - страница 6
Там, между прочим, действует одна мужественная татарка, великанша-героиня; теперь я самое имя ее позабыл, а тогда у меня и руки и ноги холодели, как только оно упоминалось! «Да, – говаривал, бывало, Пунин, значительно кивая головою, – Херасков – тот спуску не дает. Иной раз такой выдвинет стишок – просто зашибет... Только держись!... Ты его постигнуть желаешь, а уж он – вон где! и трубит, трубит, аки кимвалон![16] Зато уж и имя ему дано! Одно слово: «Херррасков!!» Ломоносова Пунин упрекал в слишком простом и вольном слоге, а к Державину относился почти враждебно, говоря, что он более царедворец, нежели пиита[17]. В нашем доме не только не обращали никакого внимания на литературу, на поэзию, но даже считали стихи, особенно русские стихи, за нечто совсем непристойное и пошлое; бабушка их даже не называла стихами, а «кантами»[18]; всякий сочинитель кантов был, по ее мнению, либо пьяница горький, либо круглый дурак. Воспитанный в подобных понятиях, я неминуемо должен был либо с гадливостью отвернуться от Пунина – он же к тому был неопрятен и неряшлив, что тоже оскорбляло мои барские привычки, – либо, увлеченный и побежденный им, последовать его примеру, заразиться его стихобесием... Оно так и случилось. Я тоже начал читать стихи, или, как выражалась бабушка, воспевать канты... даже попытался сам нечто сочинить, а именно описание шарманки, в котором находились следующие два стишка:
Пунин одобрил в этом описании некоторую звукоподражательность, но самый сюжет осудил, как низкий и недостойный лирного бряцанья[19].
Увы! Все эти попытки, и волнения, и восторги, наши уединенные чтения, наша жизнь вдвоем, наша поэзия – все покончилось разом. Как громовой удар, на нас внезапно обрушилась беда.
Бабушка во всем любила чистоту и порядок, ни дать ни взять тогдашние исполнительные генералы; в чистоте и порядке должен был содержаться и сад наш. А потому от времени до времени в него «нагоняли» бестягольных мужиков-бобылей, заштатных или опальных дворовых[20] – и заставляли их чистить дорожки, полоть гряды, просевать и разрыхлять землю под клумбы и т. п. Вот однажды, в самый развал именно такого пригона, бабушка отправилась в сад и меня с собой взяла. Всюду, между деревьев, по луговинам, мелькали белые, красные, сизые рубахи; всюду слышался скрежет и лязг скребущих лопат, глухой стук земляных комьев о косо поставленные сита. Проходя мимо рабочих, бабушка своим орлиным оком тотчас заметила, что один из них и усердствовал меньше прочих, и шапку снял как будто нехотя. Это был очень еще молодой парень с испитым лицом и впалыми тусклыми глазами. Нанковый кафтан[21], весь прорванный и заплатанный, едва держался на узких его плечах.
– Кто это? – спросила бабушка у Филиппыча, на цыпочках выступавшего за нею следом.
– Вы... про кого... изволите... – залепетал было Филиппыч.
– О, дурак! Я про этого говорю, что волком на меня посмотрел. Вон, стоит – не работает.
– Этот-с! Да-с... Э... э.. это Ермил, Павла Афанасьевича покойного сынок.
Этот Павел Афанасьев был лет десять тому назад мажордомом[22] у бабушки и пользовался особенным ее расположением; но, внезапно впав в немилость, так же внезапно превратился в скотника, да и в скотниках не удержался, покатился дальше, кубарем, очутился наконец в курной избе заглазной деревни на пуде муки месячины[23] и умер от паралича, оставив семью в крайней бедности.
– Ага! – промолвила бабушка. – Яблоко, видно, недалеко от яблони падает. Ну, придется распорядиться и с этим. Мне таких, что исподлобья смотрят, – не надобно.