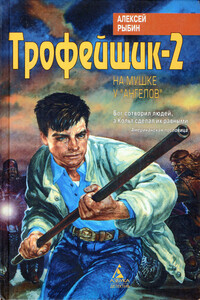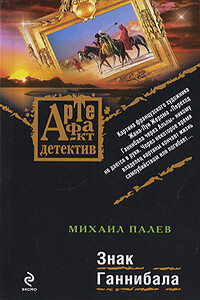Это тоже оказалось не очень приятно: такое ощущение, что глаза сейчас лопнут под страшным давлением изнутри. Но Сан Санычу удалось окинуть взглядом помещение. Правда, угол обзора составлял далеко не сто восемьдесят градусов — дай Бог, если девяносто… Большую часть обозримого пространства занимал все тот же Ильич, с невыносимой прямотой взиравший прямо в лицо Кулькову. За рамой гигантского портрета виднелись малиновые гардины, куски деревянных конструкций, странные, непонятного предназначения железки.
Писк радиотелефона за спиной вернул Сан Санычу ощущение реальности происходящего, и паника не то чтобы покинула его, а слегка отодвинулась.
Пошевелив руками и в немыслимом изломе затащив их за спину (стараясь при этом не шевелить головой), Сан Саныч вытащил на свет Божий телефон, который до этого лежал зажатый между позвоночником Кулькова и тем, что служило ему постелью.
— Але, — прохрипел Кульков в трубку, не узнав собственного голоса.
— Сан Саныч?
Кульков услышал голос своей секретарши и едва не выматерился в трубку. Только ее сейчас не хватало!
— Але, — повторил он. — Говори — чего там у тебя?
— Господин Комаров вас дожидается.
— Где? — спросил Кульков, уже понимая всю нелепость своего вопроса… Ну где может его дожидаться Геннадий, если об этом сообщает секретарша? В офисе, конечно! Где же еще?
— Здесь, — ответила слегка растерянная Лена. — В офисе…
— Сейчас буду, — выдавил из себя Кульков. — Пусть обождет.
— Хорошо, спасибо, Сан Саныч… Так я скажу, чтобы обождал.
Кульков выключил трубку и, громко застонав, приподнялся на своем ложе. Встать на ноги сил не хватило. Кульков сел в постели, опираясь обеими руками о мягкое: он еще не мог понять, что это такое — диван ли, кровать ли, просто матрас, но ЭТО точно было мягким.
Поворот головы… Осторожно, чтобы не расплескать боль, сконцентрировавшуюся в затылке, чтобы не дать ей захлестнуть лоб, виски, не залить ею глаза. Еще поворот, такой осторожный. И Кульков наконец понял, где он находится.
Однако на этом уровне понимания не рассеялась завеса тумана, скрывавшего окончание вчерашнего вечера. Напротив, вчерашние события стали казаться еще более таинственными.
Кульков обнаружил, что он у себя в каптерке, которая находилась как раз за его кабинетом, в офисе партийного штаба. В каптерке этой, довольно, впрочем, просторной, хранился всякий хлам. Вот, к примеру, старый диван, прежде стоявший в кабинете Сан Саныча, а теперь дожидавшийся в кладовой, когда его заберет к себе домой уборщица тетя Люся. И портрет Ильича, огромный, в полстены: Кульков вспомнил его — да, он сам помогал затаскивать портрет сюда. Слишком уж большой был Ильич… Да и, если честно, нарисован неважно. Не очень приличное, в общем, по современным стандартам, полотно. Выбрасывать Ильича, пусть и даже и дурно написанного, на помойку как-то нехорошо, не по протоколу. Да и то подумать: коммунисты выбрасывают портрет вождя! Прямо демократизация какая-то. Журналисты набежали бы, потом бы в газетах фотографии со своими идиотскими комментариями нашлепали. И объясняйся потом с безумными пенсионерами — не ренегат ли ты, не уклонист ли?..
Но как он-то, Кульков, оказался здесь?
Напрягшись изо всех сил, Сан Саныч поднялся-таки на ноги. Лицо Ильича опасно приблизилось к его глазам, и тут — может быть, от слишком пристального взгляда вождя мирового пролетариата, а скорее всего, от прыгающего с похмелья давления — Кулькова шатнуло… И он опять рухнул на диван, правда, не навзничь, успев выставить назад руки.
Руки уперлись во что-то живое, скользкое, отвратительно теплое. Это живое дернулось и закричало.
В глазах у Сан Саныча потемнело. Сердце громко ухнуло и упало куда-то в низ живота. Забыв на секунду про боль в голове, он как-то очень быстро заерзал и отполз в сторону. Остался на диване, но переместился к подлокотнику. Только после этого Кульков нашел в себе смелость и силы обернуться и посмотреть назад…
Галина Ипатьева лежала на боку и смотрела на Кулькова глазами, полными настоящей, холодной злости. Быстро окинув ее взглядом, Сан Саныч понял, что руки его уперлись в бедро Ипатьевой, затянутое в неизменные кожаные джинсы. Прикосновение к ним и вызвало у него ощущение чего-то совершенно потустороннего.