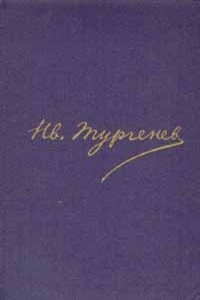— Это ты, Дутлов?
— Я-с, сударыня. Как было, так и не трогал, — сказал он. — Я не рад, как перед Богом! Как лошадь замучил…
— Ну, твое счастье, — сказала она с презрительно-доброю улыбкой. — Возьми, возьми себе.
Он только таращил глаза.
— Я рада, что тебе досталось. Дай Бог, чтобы впрок пошло! Что же ты рад?
— Как не рад! Уж так-то рад, матушка! Всё за вас Богу молить буду. Я уж так рад, что слава Богу, что барыня наша жива. Только и вины моей было.
— Как же ты нашел?
— Значит, мы для барыни всегда могли стараться по чести, а не то что…
— Уж он совсем запутался, сударыня, — сказала Дуняша.
— Возил рекрута племянника, назад ехал, на дороге и нашел. Поликей, должно, нечаянно выронил.
— Ну, ступай, ступай, голубчик. Я рада.
— Так рад, матушка!.. — говорил мужик.
Потом он вспомнил, что он не поблагодарил и не умел обойтись, как следовало. Барыня и Дуняша улыбались, а он опять зашагал, как по траве, и насилу удерживался, чтобы не побежать рысью. А то всё казалось ему, вот-вот еще остановят и отнимут…
Выбравшись на свежий воздух, Дутлов отошел с дороги к липкам, даже распоясался, чтобы ловчее достать кошель, и стал укладывать деньги. Губы его шевелились, вытягиваясь и растягиваясь, хотя он и не произносил ни одного звука. Уложив деньги и подпоясавшись, он перекрестился и пошел, как пьяный колеся по дорожке: так он был занят мыслями, хлынувшими ему в голову. Вдруг увидел он перед собой фигуру мужика, шедшего ему навстречу. Он кликнул: это был Ефим, который, с дубиной, караульщиком ходил около флигеля.
— А, дядя Семен, — радостно проговорил Ефимка, подходя ближе. (Ефимке жутко было одному.) — Что, свезли рекрутов, дядюшка?
— Свезли. Ты что?
— Да тут Ильича удавленного караулить поставили.
— А он где?
— Вон, на чердаке, говорят, висит, — отвечал Ефимка, дубиной показывая в темноте на крышу флигеля.
Дутлов посмотрел по направлению руки и, хотя ничего не увидал, поморщился, прищурился и покачал головой.
— Становой приехал, — сказал Ефимка, — сказывал кучер. Сейчас снимать будут. То-то страсть ночью, дядюшка. Ни за что не пойду ночью, коли велят итти наверх. Хоть до смерти убей меня Егор Михалыч, не пойду.
— Грех-то, грех-то какой! — повторил Дутлов видимо для приличия, но вовсе не думая о том, что̀ говорил, и хотел итти своею дорогой. Но голос Егора Михайловича остановил его.
— Эй, караульщик, поди сюда, — кричал Егор Михайлович с крыльца.
Ефимка откликнулся.
— Да кто еще там с тобой мужик стоял?
— Дутлов.
— И ты, Семен, иди.
Приблизившись, Дутлов рассмотрел при свете фонаря, который нес кучер, Егора Михайловича и низенького чиновника в фуражке с кокардой и в шинели: это был становой.
— Вот и старик с нами пойдет, — сказал Егор Михайлович, увидав его.
Старика покоробило; но делать было нечего.
— А ты, Ефимка, малый молодой, беги-ка на чердак, где повесился, лестницу поправить, чтоб их благородию пройти.
Ефимка, ни за что не хотевший подойти к флигелю, побежал к нему, стуча лаптями, как бревнами.
Становой высек огня и закурил трубку. Он жил в двух верстах и был только что жестоко распечен исправником за пьянство и потому теперь был в припадке усердия: приехав в десять часов вечера, он хотел немедленно осмотреть удавленника. Егор Михайлович спросил Дутлова, зачем он здесь. Дорогой Дутлов рассказал приказчику о найденных деньгах и о том, что̀ барыня сделала. Дутлов сказал, что он пришел позволения Егора Михалыча спросить. Приказчик, к ужасу Дутлова, потребовал конверт и посмотрел его. Становой тоже взял конверт в руки и коротко и сухо спросил о подробностях.
«Ну, пропали деньги», подумал Дутлов и стал уже извиняться. Но становой отдал ему деньги.
— Вот счастье сиволапому! — сказал он.
— Ему на руку, — сказал Егор Михайлович: — он только племянника в ставку свез; теперь выкупит.
— А! — сказал становой и пошел вперед.
— Выкупишь, что ль, Илюшку-то? — сказал Егор Михайлович.
— Как его выкупить-то? Денег хватит ли? А можь и не время.
— Как знаешь, — сказал приказчик, и оба пошли за становым.
Они подошли к флигелю, в сенях которого вонючие караульщики ждали с фонарем. Дутлов шел за ними. Караульщики имели виноватый вид, который мог относиться разве только к произведенному ими запаху, потому что они ничего дурного не сделали. Все молчали.







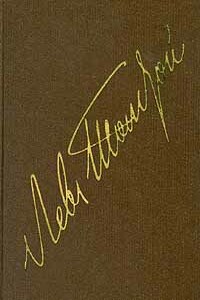
![Том четвертый. [Произведения]](/uploads/books/images/47/475b944e6bb0a2c60ab601d438721f3ec417d8eb.jpg)