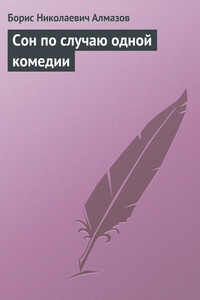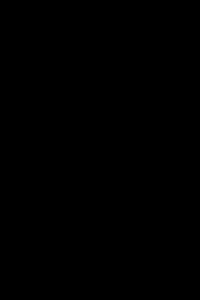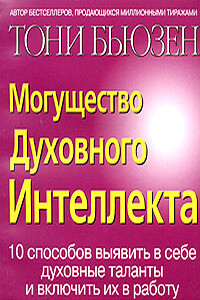можно утверждать: институт брака переживает долговременный упадок».
В нашей стране семья многие века продолжала оставаться внутри общины практически вплоть до 1917 г. (здесь необходимо заметить, что Российская империя в этом отношении была неоднородна; в центральных и восточных губерниях доля общинного землевладения составляла около 93 %, южная степь – около 80 %, западные и юго-западные губернии – от 13 % до 39 %, Литва и прибалтийские губернии – 0). Пролетарское государство решительно вмешалось в ход исторической эволюции и решило вывести семью на новый уровень отношений, освободив ее от материальных расчетов и забот о воспитании детей (в полном соответствии с установками Манифеста коммунистической партии). Отлучение от имущества не только разрушило межпоколенные связи, основанные на праве наследования, но и своеобразно развернуло материальные интересы в семейных отношениях. Теперь не дети зависели от родителей, а родители от детей (жилье, пособие, льготы и прямые выплаты полагались на ребенка). Примат общественного воспитания дополнил картину. «Каждый советский гражданин уже по выходе из родильного дома получит путевку в детские ясли, из них в детский сад с круглосуточным содержанием или детдом, затем в школу-интернат, а из него с путевкой в жизнь на производство или дальнейшую учебу», – писал академик С.Г. Струмилин в 1964 г.
Скорее всего, у идеологов новой семейной политики были лучшие побуждения, но совершенно не учитывающие естественные закономерности семейных отношений. И получилось, что государство захотело обойтись без этапа созревания личности как качества национального характера в условиях семейного воспитания, а сразу перейти от среды к системе. Образно говоря, не теряя сил и времени на движение по спирали истории, взять и перескочить на следующий виток. В результате оно оказалось в роли некой большой общины с «отцом народа» во главе. Сейчас семья как участник общественных отношений, хозяйствующий субъект и гарант социальной защищенности восстанавливает нормальные традиции, но работа только началась, и с этим приходится считаться.
Итак, мы убедились, что национальный характер в своем развитии движется от тотального отождествления, присущего общине, когда условием социальной адаптации является изменчивость, к отчуждению, свойственному системной организации бытия, где гораздо важнее навыки устойчивости. Темпы этого движения зависят от многих обстоятельств: социальных, географических, политических. И дистанция между продвинутыми и отстающими может быть такой большой, что создается впечатление, будто «мы» и «они» принадлежим чуть ли не к разным видам. Однако, стоит взглянуть на историю через призму психологии, становится очевидным, что эволюционируем мы в одном направлении. Просто нас пока что ничто не подгоняет осваивать навыки социального отчуждения. А когда мы начинаем это делать – вся система воспитания испытывает сильное напряжение от нестыковки филогенетических достижений с онтогенетическими закономерностями. Вполне вероятно, что было бы более адекватно сравнивать «нас» и «их» в качестве людей разного возраста. Тогда мы напоминали бы детей с присущим для тех стремлением к отождествлению, а они – подростков или даже взрослых, которым свойственно не только поддаваться отчуждению, но и управлять им. Думается, что такой переход от биологических аллюзий к педагогическим больше соответствует задачам, которые мы поставили перед собой в этой книге.